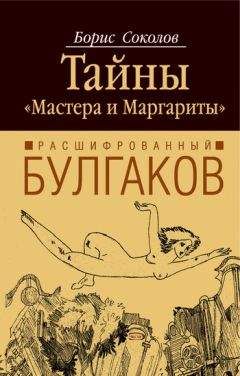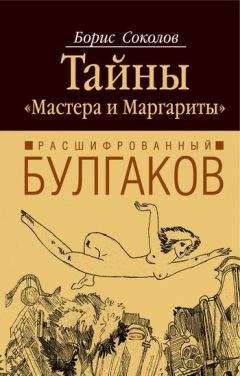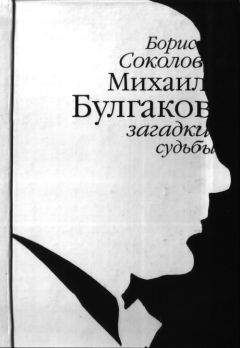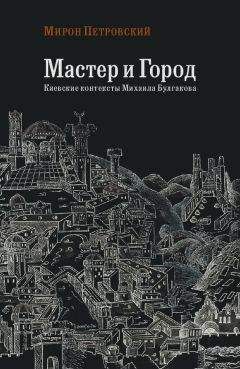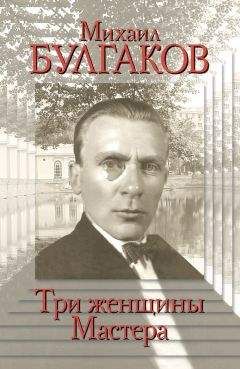Борис Соколов - Три любви Михаила Булгакова
– Сейчас будем ужинать, Миша в ванной.
Лена держалась непринужденно, но я видел, что она напряжена не меньше, чем я. Со всей искренностью она хотела расположить к себе тех из немногих его друзей, которые сохранились от его «прежней жизни». Большинство «пречистенцев» не признавали ее или принимали со сдержанностью нескрываемой. Одета она была с милой и продуманной простотой. И, легко двигаясь, стала хозяйничать. На столе появились голубые тарелки с золотыми рыбами, такие же голубые стопочки и бокалы для вина. Узкое блюдо с закусками, поджаренный хлеб дополняли картину. «Пропал мой неуемный и дерзкий Булгаков, обуржуазился», – подумал я сумрачно.
Но вот появился и он. На голову был натянут старый, хорошо мне знакомый вязаный колпак. Он был в своем выцветшем лиловом купальном халате, из-под которого торчали голые ноги. Направляясь в спальню, он приветственно помахал рукой и скрылся за дверью, но через секунду высунулся и, победоносно прищурившись, осведомился:
– Ну как, обживаешься? Люся, я сейчас.
А потом, уже за столом, говорил:
– Ты заметил, что меня никто не перебивает, а, напротив, с интересом слушают? – Посмотрел на Лену и засмеялся. – Это она еще не догадалась, что я эгоист. Черствый человек. Э, нет, знает, давно догадалась, ну и что? Ой… – Он сморщил нос. – Не дай бог, чтобы рядом с тобой появилось золотое сердце, от расторопной любви которого ко всем приятелям, кошкам, собакам и лошадям становится так тошно и одиноко, что хоть в петлю лезь».
Но общение Булгакова с «пречистенцами» все-таки продолжалось, хотя встречи стали более редкими и порой происходили в гостях у третьих лиц. Одну из них Елена Сергеевна зафиксировала в дневнике 18 сентября 1934 года: «Вечером мы с М.А. пошли к Леонтьевым. Дома были только дамы… Кроме нас, там были еще Шапошниковы. М.А. и Борис Валентинович после ужина подсели к роялю и стали петь старинные романсы. А мы, четыре дамы, рассказывали друг другу всякую чушь. В частности, Евгения Григорьевна передавала рассказ Климова – очень вольный. Впечатление было забавное. От рояля доносятся мужские голоса: «Не искушай меня…», а в это время с дамского стола раздается бас Евгении Григорьевны: «Котам яйца вырезаю!..» – из анекдота Климовского».
Жена Ермолинского М.А. Чимишкиан тоже оставила воспоминания о Булгакове. Она свидетельствовала: «В 1927 году (по воспоминаниям Л.Е. Белозерской – в 1928 году – Б. С.), когда я жила в Тбилиси, меня познакомили с Михаилом Афанасьевичем и Любовью Евгеньевной Булгаковыми. В течение приблизительно десяти дней мы встречались почти ежедневно. Познакомила нас Ольга Казимировна Туркул, с которой Булгаков был знаком еще по Владикавказу… В конце 1927 года я сообщила, что еду в Ленинград и на обратном пути буду в Москве. Пока я была в Ленинграде, туда приехал Михаил Афанасьевич и познакомил меня с супружеской четой Замятиных… На обратном пути я гостила у Булгаковых, а в 1928 году окончательно переехала в Москву и долгое время (около двух лет) жила у Булгаковых на Б. Пироговской. Спала я в гостиной, на старинном диване-ладье, называемом «закорюкой». А работала в то время в Госкино. Из этого дома в октябре 1929 года вышла замуж за Сергея Ермолинского, сопровождаемая слезами хозяйки дома, домработницы Маруси и своими собственными. Открыв чемодан, я обнаружила в нем бюст Суворова, всегда стоявший на письменном столе Михаила Афанасьевича. Я очень удивилась. Булгаков таинственно сказал: «Это если Ермолинский спросит, где твой бюст, не теряйся и быстро доставай бюст Суворова». Поднялся смех, и прекратились слезы… Выпадали у нас и уютные вечера. Мы яростно сражались в «блошки». Это детская игра, в которой М.А. достиг небывалых высот, за что и был прозван «блошиным царем». Не помню названия другой игры, но фамилия ее создателя была Ермишкин, что дало повод М.А. назвать меня этим именем. Первое время Ермолинский не без ревности упрекал меня, что я больше интересуюсь делами Булгакова, чем его собственными. Со временем это чувство притупилось. На первых порах мы жили у родственников Сергея Александровича, в 1930 году переехали в Мансуровский переулок, в дом Топлениновых, где прожили до начала войны. Моя дружба с М.А. оставалась всегда неизменно крепкой. Постепенно Булгаковы подружились и с Ермолинским и иногда даже вместе ходили на лыжах. Когда М.А. разошелся с Любовью Евгеньевной, мои отношения с ней остались по-прежнему дружескими и теплыми – таких с Еленой Сергеевной у меня не наладилось. В Нащокинском переулке, где жили Булгаковы, я бывала, но не как у себя дома…»
Если Сергей Александрович из двух булгаковских жен предпочел дружбу с Еленой Сергеевной, то Марика Артемьевна осталась верна Любови Евгеньевне и пречистенскому кругу.
Елена Сергеевна Нюренберг, что общеизвестно, послужила главным реальным прототипом булгаковской Маргариты. В романе запечатлена их бессмертная, всепоглощающая любовь.
В литературном же плане Маргарита «закатного» романа восходит к Маргарите «Фауста» (1808–1832) Иоганна Вольфганга Гёте. Некоторые детали булгаковского образа можно также найти в романе советского писателя Эмилия Миндлина «Возвращение доктора Фауста» (1923). В частности, золотая подкова, которую дарит Маргарите Воланд, очевидно, связана с названием трактира «Золотая подкова» в этом произведении (здесь Фауст впервые встречает Маргариту). Одна из иллюстраций к «Возвращению доктора Фауста» также нашла свое отражение в булгаковском романе. В сохранившемся в архиве писателя экземпляре альманаха «Возрождение» с миндлинским романом между страницами 176 и 177 помещен офорт И.И. Нивинского (1880/81–1933) «В мастерской художника», на котором изображена полуобнаженная натурщица перед зеркалом, причем на левой руке у нее накинут черный плащ со светлым подбоем, в правой руке – черные чулки и черные остроносые туфли на каблуке, волосы же – короткие и черные. Точно такой видит себя булгаковская Маргарита в зеркале, когда натирается волшебным кремом Азазелло.
С образом Маргариты в романе неразрывно связан мотив милосердия. Она просит после Великого бала у сатаны за несчастную Фриду. Слова Воланда, адресованные в связи с этим Маргарите: «Остается, пожалуй, одно – обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!.. Я о милосердии говорю… Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот я и говорю о тряпках», – заставляют вспомнить следующее место из повести Федора Достоевского «Дядюшкин сон» (1859): «Но превозмогло человеколюбие, которое, как выражается Гейне, везде суется с своим носом». Отметим, что слова Достоевского, в свою очередь, восходят к «Путевым картинам» (1826–1830) Генриха Гейне, где милосердие связано, прежде всего, с образом добродушного маркиза Гумпелино, обладателя очень длинного носа. Мысль Достоевского, высказанная в романе «Братья Карамазовы» (1879–1880), о слезинке ребенка как высшей мере добра и зла, проиллюстрирована эпизодом, когда Маргарита, крушащая дом Драмлита, видит в одной из комнат испуганного четырехлетнего мальчика и прекращает разгром.