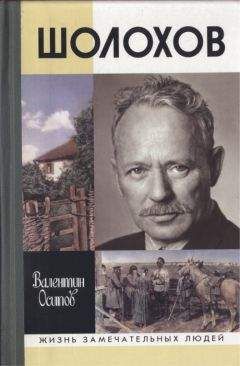Андрей Воронцов - Шолохов
— Помнится, вы и евреев жалели, которые пострадали от петлюровцев, — с наигранным простодушием, специально для Андрея, вставил Михаил.
— Да, да… — кивал Булгаков. — Память и на этот раз не изменила вам. На самом деле не желаю я зла даже евреям, на которых теперь обрушился. Да ведь не только я этим грешу: вчерашние приват-доценты, кои при старом режиме носились с этими евреями, будто они не евреи, а вымирающие североамериканские индейцы, нынче такие речи о них говорят, что куда там Пуришкевичу и Маркову 2-му! А я не приват-доцент, и нервы у меня из-за этих великих потрясений никуда не годятся. К тому же я излишне впечатлителен. Да-да, я знаю, что нам, русским, для возрождения обязательно надобно пережить какое-нибудь иго — чтобы завоеватели для легкости управления объединили нас, вечно рвущих братское мясо, по выражению незабвенного Шульгина. Но с таким ощущением легко жить вам, людям лет на 10–15 моложе меня, которых со старой Россией связывают разве что воспоминания детства, и, как я понял, не весьма радужные. А мои ощущения в этой новой России сродни тем, как если бы человек из «золотого века Екатерины» попал вдруг на машине времени Уэллса в эпоху Ивана Калиты. Я знаю, что до конца владычества монголов еще ох как далеко, а после него ждут нас прелестные штучки — дыбы Ивана Грозного, подвалы Тайной канцелярии Петра… Россия была Россией и останется ею, для нее столетия — мгновения, а как же быть со мной, которого заперли, как в клетке, в одном из этих «исторических эпизодов»? Нужна жизнь нескольких поколений, чтобы все выправилось, а мне-то отпущено на жизнь всего несколько десятков лет! Как прикажете мне быть? — Булгаков повернулся к Платонову.
В глазах Андрея сверкнул знакомый Михаилу по диспутам на Воздвиженке огонь.
— Сегодня есть ученые и писатели, которые не плачут из-за того, что заперты смертью во Времени, а пытаются сокрушить самую смерть, — с вызовом ответил он.
Булгаков несколько раз озадаченно моргнул, глядя на Платонова. Скулы его снова зарозовели. Он откашлялся, поправил бабочку.
— Ну-с, — проговорил он, глядя куда-то вбок, — все эти штуки — научное бессмертие, воскрешение мертвых с помощью опытов — признаюсь, не для меня. Это все вторая часть «Фауста», а я ей всегда предпочитал первую.
— Это не «Фауст», в уничтожении смерти — конечный смысл нашей великой революции, — с тем же пылом заявил Платонов. — Смерть — вот самое тяжкое угнетение человека.
Булгаков вдруг широко улыбнулся.
— Тогда зачем она нужна была, ваша революция? — почти задушевно спросил он. — Или вас не познакомили в церковноприходской школе с учением о бессмертии души? Или вы никогда не слышали в церкви «Символа веры», в коем сказано: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века»? Получается, что вы роете один и тот же тоннель в бессмертие, что и христиане, только с другой стороны?
— Учение христиан о бессмертии есть не более чем вековечное желание человека, а мы собираемся устранить физическую смерть реально, опираясь на достижения науки.
Булгаков поднялся.
— Искренне желаю вам успеха. Было весьма интересно познакомиться. Я, признаться, представлял революционных писателей другими, с более ограниченным, так сказать, кругозором. Правда, — улыбнулся он Михаилу, — сомневаюсь, что мой старый знакомый такой уж революционный писатель. В зажиточном казачьем курене, где я имел честь вас видеть, революционные настроения зарождаются, как мне кажется, не так легко. Вам придется потрудиться, мой юный друг!
— Потрудимся, — просто ответил Михаил, пожимая Булгакову руку. — Как же иначе? Не знаю, насколько я революционный писатель, но точно знаю, что писателем, пусть и начинающим, меня сделала революция.
— Самое смешное, что и меня тоже, — рассмеялся Булгаков. Он вежливо, но с неуловимой иронией поклонился Платонову и, долю секунды поколебавшись, протянул руку и ему. Платонов, по-прежнему глядящий исподлобья, молча пожал ее.
IV
Как только появились в печати «Донские рассказы», Михаил ощутил пристальное внимание к себе со стороны руководителей Всероссийской ассоциации пролетарских писателей, внешне выраженное в весьма дружелюбных формах. Нет, его рассказы не печатал ни «Октябрь», ни «Молодая гвардия», ни тем более «На посту», никто из вапповских вождей ему особенно не помогал, но никто и не мешал, он не ощущал той невидимой преграды, в которую всегда упирался дома, на Дону, и здесь, в Москве, в первые месяцы жизни. Его не звали ни в руководящие органы Московской ассоциации, ни в редколлегии журналов, как, например, Сашку Фадеева, ушастого, краснолицего, голосистого партийного выдвиженца с Дальнего Востока, которому открыто покровительствовала сама Розалия Самойловна Залкинд по кличке Землячка. Но, с другой стороны, он безнаказанно отлынивал от всех общественных нагрузок, обязательных в ту пору для членов МАППа, и никто ему за это не пенял. По большому счету, Михаил не мог сказать про МАПП, само название которого звучало для многих писателей примерно так же, как ГПУ, ничего плохого.
А ведь возглавляли эту организацию те самые евреи, о которых с такой горячностью говорил у Ермолова Булгаков. Вообще, жизнь в писательской среде научила Михаила, что то восприятие евреев в контрастных тонах, в духе названия труда Костомарова «Казаки и евреи», которому он был обязан Резнику и другим «комиссарам арестов и обысков», в литературном деле не годится, независимо от того, заправляют в редакциях евреи, на что жаловался Булгаков, или нет. Литература была чем-то более высоким, нежели схватки евреев и неевреев, и многие евреи, как с удивлением убедился Михаил, тоже так к ней относились. Они имели редкое чутье на талант, которого порой так не хватало русским, и умели увлекаться чужим талантом — если, разумеется, не ощущали в нем какую-либо для себя опасность.
Авербах и его соратники, впрочем, к таким людям не относились, но нюх на талант, несмотря на политическую зашоренность, имели и они. Этим они выгодно отличались от своих предшественников из «Кузницы», которые с помощью организации решали прежде всего свои личные издательские дела. Массовость ВАППа была лишь первым пунктом программы деятельности напостовцев. Они отлично понимали, что если, кроме Либединского и Фурманова, не появится в их рядах ярких талантов, то эта самая «массовость» может сыграть с ними плохую шутку: недруги, все еще пользующиеся влиянием, станут не без оснований говорить, что грош цена такому многолюдству в ВАППе, если в нем собрались одни бездари и карьеристы. В этом и была причина дружелюбного отношения к Михаилу и ему подобным Авербаха, Ермилова и прочих. Они нуждались в талантах и искали их — и искали действительно в рабочей и крестьянской среде, как и следовало из задач ВАППа. Этой заслуги никто у них не отнимет, как бы ни велики были их грехи перед русской литературой. Конечно, в руководящие органы писателей «от станка» и «от сохи» напостовцы не брали (Михаил — первый пример), но так было и в партии, которую образцом для себя считали вапповцы. А вообще «русская прослойка», как в ВКП(б), так и в ВАППе, увеличивалась год от года. Поэтому с иронией произнесенные Булгаковым слова, что евреи способны объединить русских, как это сделали в свое время монголо-татары, Михаил, зная немного жизнь МАППа, воспринимал вполне серьезно. Ясно было, что при крахе Лелевича, Родова и Авербаха и даже самого ВАППа налаженная ими система вовлечения писателей-любителей в большую литературу никуда не денется и послужит, быть может, со временем более благим целям, чем преследовали рвущиеся к неограниченной власти в советской литературе напостовцы. Вот почему русско-еврейские отношения в новых условиях, в которых оказался Михаил, представлялись более многоплановыми и сложными, нежели на Дону, в дни Вешенского восстания с его лозунгом: «За Советы — но без жидов и комиссаров».