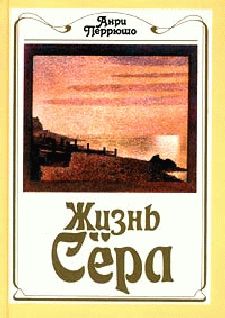Анри Перрюшо - Жизнь Сезанна
А пока он без дела топчется вокруг Сезанна, который по-прежнему равнодушен ко всему происходящему и пишет, продолжает как ни в чем не бывало писать. Благоухание цветущих холмов примешивается к запаху моря. Когда на смену палящему послеполуденному зною на залив опускаются вечерние тени, первозданная тишина охватывает эти богом спасаемые места. Скользя по глади вод, в гавань входят рыбачьи лодки.
Теперь, когда мать и Габриэль в безопасности, Золя, доведенный до отчаяния безденежьем и вынужденным бездействием, был бы не прочь вернуться в Париж. События опережают его: 17 сентября началась осада Парижа. И вот, оставив Сезанна в его мирном Эстаке, Золя уезжает в Марсель и поселяется там на улице Аксо, 15. Договорившись с Арно, издателем газеты «Мессаже де Прованс», где в свое время печатались «Марсельские тайны», Золя в компании с Мариусом Ру, тоже эвакуировавшимся на юг, начинает выпускать ежедневный листок «Ла Марсейэз» стоимостью в пять сантимов; Валабрег собирается поставлять ему статьи.
Правительство решило вести борьбу не на жизнь, а на смерть. Призвав под ружье полмиллиона человек, Париж сопротивляется. 7 октября Гамбетта на воздушном шаре покидает столицу, чтобы организовать в провинции национальную оборону и, создав там новые армии, бросить их против пруссаков.
Альфонс де Невиль. Последние патроны.
Несмотря на то что 27 октября Базен в Меце капитулировал – в плен сдались сто семьдесят три тысячи человек, – бои идут повсюду. Дерутся на Луаре, дерутся вокруг Парижа, дерутся на севере, дерутся на западе. Все муниципальные советы, даже экский, бросают волнующий клич: «Восстанем, граждане, и все, как один, ринемся вперед, на врага!»
Однако Мариус Ру не скрывает от Золя, что в этих витиеватых призывах больше кривляния, чем истинной жажды подвига. В комиссии по переписи, задавшейся целью создать национальную гвардию, заседают Байль и Валабрег. Принимать всерьез их деятельность – последняя нелепость, как говорит Ру: «Вперед! Нечего сказать, хороши голубчики!» Луи-Огюст и подавно относится к своим обязанностям без особого рвения. Почти на всех заседаниях совета против его имени делают пометку: «отсутствует по неизвестной причине», что не мешает его жене состоять в дамах-патронессах международного общества помощи раненым.
Леон Гамбетта в 1870 г. Гравюра.
18 ноября принесло Сезанну важную весть. Муниципалитет Экса, приступив к переизбранию членов комиссии по школе рисования, торжественно избрал его 15 голосами из 20 (большего числа голосов никто не получил). Важная весть? Нет, похоже, что это избрание трогает Сезанна не больше, чем происходящие вокруг события. Он удостаивает комиссию своим присутствием не чаще, чем его отец заседания совета.
Где бы ни был Сезанн, в Эстаке или в Эксе, он все так же невозмутимо продолжает работать, не думая ни о чем другом. Когда погода оставляет желать лучшего, он прилежно занимается каким-нибудь портретом или пишет отмеченные налетом модернизма сцены со многими персонажами, вдохновляясь картинками из журналов мод, которые просматривают Гортензия и его сестры. Достаточно этих жалких картинок, чтобы воображение его заработало. По правде говоря, пришпоривать воображение ему нет никакой необходимости. «Я не нуждаюсь в возбуждающих средствах, – заявляет он, – я сам себя подстегиваю». Теперь Сезанн пишет свои портреты с такой же объективностью, как и свои натюрморты; впрочем, его глаз художника видит в живой модели ту же объективную тему изображения: в этом смысле лицо стоит яблока; ибо лицо и яблоко дают одинаковую возможность проникновения в тайны природы.
«Ла Марсейэз» продается плохо. Предвидя ее близкую кончину, Золя задумал стать супрефектом Экса. Он предпринимает кое-какие шаги. На его беду, административные власти находятся в таком же неопределенном положении, как и военные. Никто точно не знает, кем был назначен нынешний супрефект Экса. Подстегиваемый нуждой, Золя теряет самообладание. Пытаясь ускорить дело, он оставляет мать и Габриэль в Марселе, а сам 12 декабря едет в Бордо, куда эвакуировалось правительство национальной обороны. Он убивает много времени на хлопоты. 19-го ему, наконец, удается за неимением лучшего получить пост секретаря одного из министров, а именно Глэ-Бизуэна, которого он в свое время встречал в «Ла Трибюн». Не думая больше о завтрашнем дне, Золя бодро смотрит в послевоенное будущее. «Один-единственный искусный маневр, – пишет он 22 декабря Мариусу Ру, – и мы вернемся с победой».
А война между тем продолжается. С отчаянной яростью сражаются на Луаре войска генерала Шанзи. 27 декабря пруссаки начинают артиллерийский обстрел голодного Парижа, где вернувшийся из ссылки Гюго играет роль поэта-олимпийца и слагает звучные стихи, которые вошли в его сборник «Грозный год».
«Наш век перед судом. И здесь свидетель я».
Дождь. Снег. Нестерпимая стужа всюду: на юге и на севере, в Эксе и в Париже. Море в Эстаке серое, бурное, небо низкое; сосны, скалы – все исчезло под сплошным покровом тусклого грязновато-желтого снега. И всюду продолжается мобилизация. Получил повестку и Сезанн.
Однако он и не подумал откликнуться. До того он несколько недель подряд регулярно мозолил глаза всему Эксу. О нем судачили. Завистники диву давались: как же это так, сынок банкира до сих пор не в мундире! Жандармы, посланные на розыски Сезанна, явились за ним в Жа де Буффан. «Он уже несколько дней как уехал, – предусмотрительно сказала мать. – Как только узнаю, где он, дам вам знать». Но ввиду того, что во время своих наездов в Экс Сезанн по беспечности не скрывал, что местом уединения ему служит Эстак, власти, естественно, были об этом немедленно уведомлены. Не зная точно, подлежит ли Золя призыву, и не подозревая, что он уехал из Эстака, шпики заодно донесли и на него. 2 января отец Мариуса Ру случайно подслушал разговор двух мобилей[89]; трем солдатам во главе с капралом приказано отправиться в предместье Марселя на поиски уклоняющихся от призыва, в числе уклоняющихся мобиль назвал Сезанна и Золя.
Чем кончилась эта облава? Возможно, Байль и Валабрег замолвили за Сезанна словечко в комиссии по составлению мобилизационных списков. Возможно, мобили разыскивали Сезанна с такой же прохладцей, с какой он сам скрывался. Война, мобилизация казались ему чем-то совершенно нереальным. Даже лютая зима, на которую все роптали, служила ему лишь темой для новых этюдов. Он пишет, изучая природу, ставя перед собой одну задачу за другой, пишет, раздираемый борьбой противоречивых начал, враждой двух живущих в нем существ – одно из них, исполненное огня и фантазии, легко возбудимое и поэтичное, блуждает по воле инстинкта в мире, сотрясаемом порывами бурных желаний, а другое – трезвое и суровое – умеет подчинить закону своего разума хаос вещей и их растущий поток.