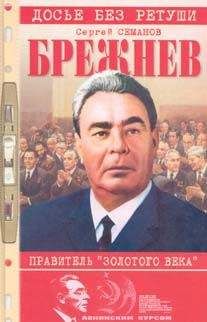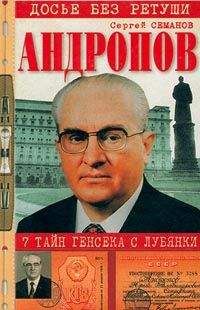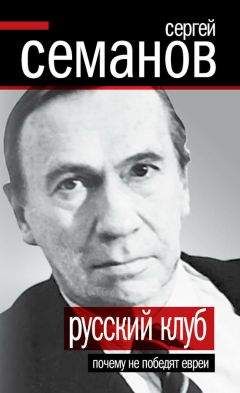Сергей Семанов - Дорогой Леонид Ильич
Во всем мире (имеется в виду, конечно, мир просионистской печати и телевидения) начался неистовый гвалт: свобода слова… права личности на самовыражение… Ну, партийному руководству к шумихе на Западе было не привыкать, не такое слыхали и переживали, но куда серьезнее разворачивались события внутри страны. Глупость и непоследовательность Хрущева состояла, помимо всего прочего, и в его идеологической политике. Он то бранил художников-модернистов, обзывая их педерастами (как выяснилось, не без основания), то заигрывал с мальчишками поэтами, сочинявшими нечто фрондерское, хотя и вполне прокоммунистическое. А так как грозная некогда Лубянка при нем сильно притихла, это разбаловало верхушку интеллигенции.
Арест двух неведомых «писателей» вызвал вдруг в этой среде сильное брожение. Нет-нет, никаких публичных действий или высказываний, до «перестройки» было еще далеко, но… начались разговоры, и даже вслух. А потом пошли и письма в разные властные учреждения с просьбой (или порой даже требованием) в этом деле «разобраться». Такого еще не было никогда в Советском Союзе, возникло даже словечко «подписант», сохранившееся и по сей день в языке, хотя уже в смысле сугубо ироническом. Короче, Шелепин и его сотоварищи своими грубыми действиями спровоцировали опасную для них волну, но они не понимали сути происходящего. Их младший сподвижник Сергей Павлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, публично выступал с горячими обличениями всякой крамолы в культуре. Против него и пошел ответный удар, остался в памяти стишок Евтушенко «Румяный комсомольский вождь»…
Многоопытный и осторожный Брежнев, находясь на пике своей карьеры, все это, разумеется, видел и на ус мотал. Шелепин и его дружки действуют без оглядки на партийное руководство и Генерального секретаря? Сегодня они самостоятельно начинают политический процесс, а что сделают завтра и что замышляют вообще? Более того, пошли разговоры — за границей шумно, у нас пока тихо, — что в Москве-де собираются опять вернуться к политике репрессий.
Брежнев и его старшие сотоварищи по Политбюро никаких новых репрессий проводить не хотели, они достаточно хорошо помнили тяжкие испытания партийных кадров в тридцатых годах. Нет, зарвавшимся «комсомольцам» следует дать своевременный отпор, пока они не натворили еще чего-нибудь, куда более крутого. Осторожно и молчаливо Брежнев начал обдумывать и готовить ответные меры.
В ту пору, повторим, он был в хорошей форме. Его аппаратный сотрудник тех времен Ф. Бурлацкий засвидетельствовал с точной наблюдательностью прислуги за своим хозяином: «Свой рабочий день в первый период после прихода к руководству Брежнев начинал необычно — минимум два часа посвящал телефонным звонкам другим членам высшего руководства, многим авторитетным секретарям ЦК союзных республик и обкомов. Говорил он обычно в одной и той же манере: вот, мол, Иван Иванович, вопрос мы тут готовим. Хотел посоветоваться, узнать твое мнение… Можно представить, каким чувством гордости наполнялось в этот момент сердце Ивана Ивановича. Так укреплялся авторитет Брежнева. Складывалось впечатление о нем как о ровном, спокойном, деликатном руководителе, который шагу не ступит, не посоветовавшись с другими товарищами и не получив полного одобрения своих коллег.
При обсуждении вопросов на заседаниях Секретариата ЦК или Президиума он почти никогда не выступал первым. Давал высказаться всем желающим, внимательно прислушивался и, если не было единого мнения, предпочитал отложить вопрос, подработать, согласовать его со всеми и внести на новое рассмотрение. Как раз при нем расцвела пышным цветом практика многотрудных согласований, требовавшая десятков подписей на документах, что стопорило или искажало в итоге весь смысл принимаемых решений.
Прямо противоположно Брежнев поступал при решении кадровых вопросов. Когда он был заинтересован в каком-то человеке, он ставил свою подпись первым и добивался своего. Он хорошо усвоил сталинскую формулу: кадры решают все. Постепенно, тихо…»
Общительность и простота общения Брежнева были безусловно положительными качествами, которые хороши для любого руководителя. Хрущев кричал и матерился, не терпел чужих мнений и тем более возражений. Ясно, что на его фоне для всего партийного аппарата Брежнев выглядел в высшей степени благоприятно, что было сразу замечено и оценено окружающими.
Брежнев предложил Семичастному и его следователям закончить дело Синявского и Даниеля до партийного форума. Те не возражали, ибо уверены были в успехе: факт незаконной передачи рукописей за рубеж очевиден, сами обвиняемые его признают, эксперты дали заключения об антисоветской направленности публикаций, все, мол, тут ясно, дело обычное, проведем открытый процесс, пусть все видят…
Но дело-то оказалось совсем необычным и неясным. Судебное разбирательство и в самом деле шло открыто, присутствовали иностранные корреспонденты, довольно широко, хотя, конечно, односторонне, освещала дело советская печать. Такого не было со времен знаменитых процессов конца тридцатых годов. На повторение таких же результатов наверняка и рассчитывали простоватые шелепинские чекисты, давно отвыкшие от серьезных дел подобного рода. Однако исполнители нынешнего дела оказались иными, а главное — изменилось время.
Процесс вел образованный и талантливый юрист Лев Николаевич Смирнов (автор имел честь много общаться с этим замечательным русским человеком). Он совсем не хотел подыгрывать шелепинским лубянцам, вел судебное разбирательство спокойно, как бы отрицая своих невольных предшественников Ульриха и Вышинского. Более того, ясно (хоть и никогда точно не станет известно, однако вполне логично предположить, исходя из общей линии Брежнева в ту пору), что Смирнову так или иначе дали понять, что на самом верху вовсе не собираются требовать от него повторения тридцать седьмого года… Так ли, не так ли, но председатель суда давал обвиняемым высказаться и довел дело до конца.
Конец известен: 12 февраля приговорили Синявского к семи, а Даниэля к пяти годам строгого режима за антисоветские произведения и передачу их за границу. Все было по закону, они оба получили даже меньше, чем полагалось бы по максимуму той статьи. Шум за границей достиг силы шторма, а у нас число «подписантов» возросло. Всем понимающим людям стало ясно, что Шелепин и его команда проиграли: поворота в политике не добились, противников своих не запугали, а только пыль подняли. Брежнев понимал это лучше многих…
Главное теперь было — провести XXIII съезд партии, где ему впервые в жизни довелось выступить с отчетным докладом. Серьезная, хоть и молчаливая, борьба в партийных верхах развернулась о памяти Сталина, продолжать ли непопулярную хрущевскую линию в этом деле, пойти ли на обратную «реабилитацию» его имени или вообще осторожно обойти этот острейший вопрос. Ясно, что Брежнев избрал последнее, не без труда добившись тут большинства сторонников этой точки зрения. Другой его предварительный успех состоял в важном процедурном изменении порядка съезда (Леонид Ильич на такие процедурные игры был уже тогда большой мастак!): было решено, что на съезде от ЦК и от своих ведомств будут выступать только Брежнев, Косыгин и Подгорный. Шелест или Щербицкий будут выступать только от Украины. Другие члены Президиума ЦК должны будут воздерживаться от выступлений. И действительно, ни Суслов, ни Шелепин, ни Микоян, ни Демичев не получили слова на съезде партии. Такой же порядок сохранился и на следующих съездах партии, хотя до сих пор была традиция, что все члены Политбюро обязательно выступали, освещая перед партией свои взгляды, порой противоречивые. Теперь от них требовалось, по крайней мере, показное единство, что, разумеется, уменьшало их возможности оспорить, хотя бы косвенно, мнения Генерального секретаря. Это было немаловажным успехом Брежнева, тоже внешне почти незаметным.