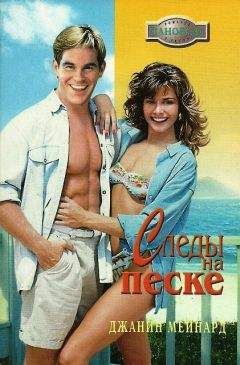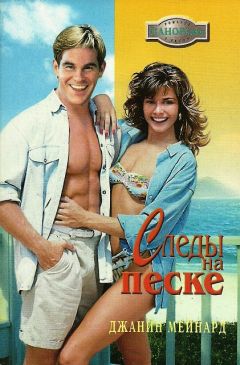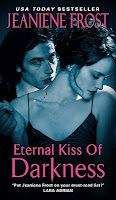Екатерина Мишаненкова - Анна Ахматова. Психоанализ монахини и блудницы
[1917. Париж]
Дорогая Аничка, ты, конечно, сердишься, что я так долго не писал тебе, но я нарочно ждал, чтобы решилась моя судьба. Сейчас она решена. Я остаюсь в Париже в распоряжении здешнего наместника от Временного Правительства, т. е. вроде Анрепа, только на более интересной и живой работе. Меня, наверно, будут употреблять для разбора разных солдатских дел и недоразумений. Через месяц, наверно, выяснится, насколько мое положение здесь прочно. Тогда можно будет подумать и о твоем приезде сюда, конечно, если ты сама его захочешь. А пока я еще не знаю, как велико будет здесь мое жалованье. Но положение во всяком случае исключительное и открывающее при удаче большие горизонты.
Я по-прежнему постоянно с Гончаровой и Ларионовым, люблю их очень. Теперь дело: они хотят ехать в Россию, уже послали свои опросные листы, но все это очень медленно. Если у тебя есть кто-нибудь под рукой из Мин. иностр. дел, устрой, чтобы он нашел их бумаги и телеграфировал сюда в Консульство, чтобы им выдали поскорее паспорта. Их дело совершенно в порядке, надо только его ускорить.
Я здоров и доволен своей судьбой. Дня через два завожу постоянную комнату и тогда напишу адрес. Писать много не приходилось, все бегал по разным делам.
Здесь сейчас Аничков, Минский, Мещерский (помнишь, бывал у Судейкиных). Приезжал из Рима Трубников.
Целуй, пожалуйста, маму, Леву и всех. Целую тебя.
Всегда твой Коля.
Когда Ларионов поедет в Россию, пришлю с ним тебе всякой всячины из Galerie Lafayette.
И дальше приписка рукой Ахматовой:
Милая Мама, только что получила твою открытку от 3 ноября. Посылаю тебе Колино последнее письмо. Не сердись на меня за молчание, мне очень тяжело теперь. Получила ли ты мое письмо?
Целую тебя и Леву.
Твоя АняПоследние два письма написаны в 1917 году, между Февральской и Октябрьской революциями. Меньше чем за год до развода Ахматовой и Гумилева. Он собирается вызвать ее к себе за границу, а что она? Если бы были ее письма того периода… А так остается только гадать.
– Как ты думаешь, Ахматова к тому времени уже разлюбила его или нет?
Я вздрогнула. Андрей словно бы прочитал мои мысли. Или мы вновь, как и раньше, синхронно подумали об одном и том же?
– Я не уверена, что она его вообще когда-нибудь разлюбила. И в то же время не уверена, что она его вообще когда-нибудь любила. По крайней мере в том смысле, какой обычно в это вкладывают.
– А он?
Я положила письма в папку и развела руками.
– Если бы я знала! Что можно сказать о человеке по нескольким письмам? Но мне кажется, что для него желание Ахматовой подать на развод должно было стать ударом. Вне зависимости от глубины его чувств. Помнишь, она говорила, что их все к тому времени привыкли видеть порознь? И письма это подтверждают – с 1913 года Гумилев то и дело в отъезде, причем все время где-то далеко, то есть отсутствует месяцами.
Андрей нахмурился.
– Не совсем пойму, к чему ты клонишь.
– Они живут порознь, видятся редко, знают друг о друге в основном из писем. И уж, конечно, не знают о каких-то увлечениях друг друга, ведь о таком не пишут. Поэтому у них должен был сложиться не совсем точный образ друг друга, возможно несколько идеализированный. В разлуке ведь недостатки забываются. А потом, представь себе, Гумилев приезжает, уверенный, что все по-прежнему, а Ахматова ему сообщает, что хочет развода.
Он помолчал, а потом вдруг неожиданно сказал:
– Как ты мне.
Я в первую секунду даже не нашлась что сказать и с трудом удержалась от желания тут же треснуть его по голове папкой, которую держала в руках. К счастью, выдержки хватило, чтобы не скатиться до скандала, и я процедила сквозь зубы:
– Не передергивай! Ахматова собиралась выйти замуж за другого. А я тебя застукала с любовницей. Кажется, у меня тоже было о тебе идеализированное представление.
Андрей явно хотел что-то ответить и уже даже открыл рот, но вместо этого сделал глубокий вздох, встал и молча вышел. Дверью, правда, хлопнуть не забыл, но все равно я так изумилась, что даже почти перестала злиться. Никогда он так себя не вел, доказать свою правоту было для него делом чести, а уж оставить за собой последнее слово – и вовсе жизненным принципом.
* * *Несмотря ни на что, я упрямо решила дочитать сегодня переписку Ахматовой и взялась за следующее письмо.
Дорогая Марина Ивановна,
Марина? Я повертела пачку и нашла пометку – переписка с Цветаевой. Сразу вспомнилось, как уклончиво Ахматова рассказывала об их знакомстве. Хотелось бы понять, что она скрывала, но особых надежд я на это не питала – писем, к сожалению, было мало, некоторые даже без дат, поэтому я догадывалась, что это лишь малая часть переписки. К тому же еще во время чтения переписки с Гумилевым у меня сложилось стойкое впечатление, что самое важное осталось в тех письмах, которых нет в архиве.
Но сгорели они или где-то спрятаны, мне до них все равно не добраться, поэтому я оставила бесполезные сожаления и продолжила читать то, что есть.
Дорогая Марина Ивановна,
благодарю Вас за добрую память обо мне и за иконки. Ваше письмо застало меня в минуту величайшей усталости, так что мне трудно собраться с мыслями, чтобы подробно ответить Вам. Скажу только, что за эти долгие годы я потеряла всех родных, а Левушка после моего развода остался в семье своего отца.
Книга моих последних стихов выходит на днях, я пришлю ее Вам и Вашей чудесной Але. О земных же моих делах не знаю, право, что и сказать. Вероятно, мне «плохо», но я совсем не вижу, отчего бы мне могло быть «хорошо».
То, что Вы пишете о себе, и страшно и весело.
Желаю Вам и дальше дружбы с Музой и бодрости духа, и, хотите, будем надеяться, что мы все-таки когда-нибудь встретимся.
Целую Вас.
Ваша АхматоваДорогая Марина Ивановна,
меня давно так не печалила аграфия, которой я страдаю уже много лет, как сегодня, когда мне хочется поговорить с Вами. Я не пишу никогда и никому, но Ваше доброе отношение мне бесконечно дорого. Спасибо Вам за него и за посвящение поэмы. До 1 июля я в Петербурге. Мечтаю прочитать Ваши новые стихи. Целую Вас и Алю.
Ваша АхматоваАграфия? Расстройство письма – сложности с изложением мыслей письменно, на бумаге. Ну конечно! Настоящая у Ахматовой была аграфия или она просто прикрывала ею свое неумение писать письма (видимо, развившееся с возрастом, ведь в юности она писала их вполне бойко), в любом случае это многое объясняло. Ее письма к Цветаевой были такие же короткие и суховатые, как и письма к Гумилеву, хотя, конечно, куда менее личные.