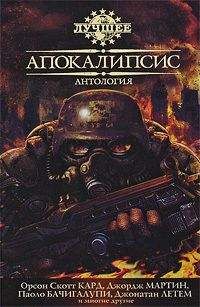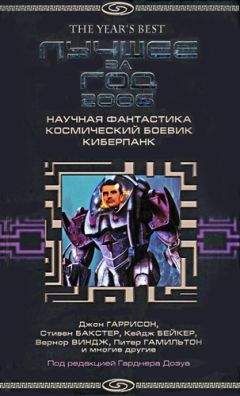Вернон Кресс - Зекамерон XX века
Отозвался маленький старик в кубанке.
— Иди к Хасанову в шестой барак, отец!
Нас поселили в бараках, где жило приблизительно по четыреста человек. Я тоже попал к Хасанову, грузному ингушу с орлиным носом и сверкающими черными глазами. Дисциплина тут была строгая, при команде «Выходи!» все кидались к дверям, ибо всегда стояли там, где их меньше всего ожидали, несколько дагестанцев с дубинками.
Жил я спокойно, красть у меня лично было нечего, если не считать резную сибирскую ложку, память о Нарымском крае. Для «мужика» было опасно трогать чужое, ведь его мог оставить вор. Получив однажды утром хлеб, я положил его на подоконник и забыл об этом, когда нас выгоняли на поверку. Понимаю теперь, что был тогда недостаточно голоден, иначе, разумеется, не забыл бы. Поверка длилась всегда очень долго: пока не подводили итоги по всей пересылке, никого не отпускали. Выстроенных в рядах по пяти, нас При счете ставили на колени, чтобы не спутать с еще не пересчитанными группами. Когда я вернулся в барак и не надеялся больше на хлеб — пайка мирно лежала на старом месте. Человек, оказавшийся возле меня, удивленно посмотрел на то, как я забрал хлеб, и протянул разочарованно:
— А я думал, кто-то из урок положил!..
Мне понравилось в Находке. После нескольких лет в Сибири я впервые оказался зимою в мягком климате, в конце ноября сидели в пиджаках и тапочках, а то и вовсе босиком, на завалинках бараков и грелись на солнце, даже ночью было тепло. Котловину, где находилась пересылка, окаймляли гордые, красивые сопки, покрытые осенним ржаво-бурым лесом, и над ними часто было синее небо. Где-то за воротами пересылки сопки разрезал узкий проход, там, говорили, был порт, в котором несколько месяцев назад произошел страшный взрыв: в воздух полетел большой пароход «Дальстрой». Были уничтожены основные портовые сооружения и около десятка жилых домов. Шептали насчет диверсии, но никто из нас толком не знал, в чем дело.
За зоной, по дороге из другого лагеря в порт, утром проходили с песнями японские военнопленные. Они были в форме, только без знаков отличия — красивые легкие френчи, обмотки, хлебные сумки через плечо. Впереди роты шел офицер, рядом с солдатами, как и полагается, унтер. При плохой погоде они надевали бушлаты с отстегивающимися рукавами и громадные ушанки, отороченные обезьяньим мехом. Маршировали японцы отлично, выправка ничего не оставляла желать — войска как войска, разве чуть низкорослые. Пели они всегда громко, бодро и хорошо шагали в такт.
Пересылка была огромной, я не могу даже представить себе ее настоящие размеры и планировку. В баню, например, нас водили через несколько зон, открывая и закрывая большие ворота; проходили под вышками, потом за пределами колючей проволоки по дороге, где маршировали японцы, потом снова заходили в зону и наконец приближались к большому бараку с бетонированным полом, куда нас и запускали. Внутри вдоль стены небольшие группы людей стояли в очередях к парикмахерам, которые работали с феноменальной скоростью, не оставляя ни одной волосинки на всем теле зека. Ругаясь и стукая ручкой бритвы по шее протестующей жертвы, они вручали нам после бритья крошечный кусочек мыла и подгоняли, пугая ошеломленных новичков:
— Скорее под душ, воду сейчас закроют!
Из многочисленных душей шла с перебоями вода от кипятка до холодной, кому как повезет. Но независимо от этого мы должны были управиться за минуту — нас подпирали те, кто за спиной ожидал очереди. Потом толпа голых мужчин долго стояла на холодном бетонном полу и ждала, когда принесут из прожарки вещи, сданные перед заходом в баню. Санитары в больших рукавицах приволакивали груды горячих брюк, телогреек, рубашек. Обжигая руки, люди старались поскорее разыскать свое. Давка была ужасная, слышались крики, мат, иногда звук оплеухи. На пересылке была особая система дезинфекции, не сухая, как в Сибири, а паром, в чем мне пришлось сразу же убедиться. Я быстро нашел свою одежду и остолбенел: моя кожаная куртка, верный спутник во многих лагерях, тюрьмах, побеге и шатаниях по Средней Азии, прошедшая в Сибири десятки дезинфекции, вдруг' уменьшилась до размера жилетки, сморщилась, воротник облез и стал ломаться под моими пальцами, когда я попытался куртку надеть. Я бросил старого товарища за пожарной бочкой и вернулся в одном пиджаке.
На пересылке большинство людей были заняты какими-то таинственными делами: кто спекулировал, кто подрабатывал на кухне, кто менял свой хлеб на «макуху» — прессованный жмых подсолнуха или сои, кто торговал табаком. Я был совершенно лишен коммерческих способностей, к тому же не имел ничего, чем бы мог торговать, и заменял недостаток калорий отдыхом. Предпочитал наблюдать за теми, кто находился по ту сторону проволоки.
Из этих странно одетых людей, почти одних русских, можно было сделать наглядное пособие по обмундированию всех армий Европы и США. Тут были фигуры в длинных парадных френчах с американским орлом на пуговицах и френчах итальянских, коротких, с двумя разрезами. Попадались в толпе серо-синие немецкие кители с черным бархатным воротником, желтели длинные словацкие шинели, мелькали темные плащи мотоциклистов вермахта. Бывшие бойцы армии Рокоссовского ходили в сапогах из красновато-желтой кожи буйвола, снятых с японских офицеров — часть освобожденных военнопленных отправляли воевать на Восток, потом, спохватившись, везли сюда.
Некоторые из наших вольных соседей успели продать или обменять свое обмундирование и носили телогрейки или пиджаки, но прошлое их обладателей выдавала форма котелка — с ним-то уж никто не расставался. Я и не подозревал о таком разнообразии форм этого вроде простого предмета — от итальянской четырехугольной коробки до плоского американского с отделением «для яичницы», как объяснили мне с завистью мои товарищи по несчастью: яичница у нас была вершиной мечты. А побывавшие в американской армии с восторгом вспоминали большие коробки с сухим пайком — там было все, даже туалетная бумага.
Все эти люди, бывшие пленные, солдаты иностранных армий, в том числе власовцы, находились в пути на Колыму, где они должны были отработать шестилетний проверочный срок. За это время успевали тщательно пересмотреть их «дела», и немало спецпереселенцев потом оказывалось за лагерной проволокой, получив после 1947 года неслыханный раньше срок — двадцать пять лет. Но обо всем этом они тогда, осенью сорок шестого, так же мало подозревали, как и мы.
Один литовец, постоянно занятый коммерческими сделками и носившийся ради них по всему лагерю, привел ко мне немца, первого из самой Германии, которого я увидел после ареста. Это был долговязый шестнадцатилетний подросток в очках, толстых, как увеличительное стекло. На голову выше меня, с несуразно длинными ногами и руками, смешно торчавшими из коротких рукавов узкого лагерного пиджака, выглядел он карикатурой на переросшего гитлерюнга. Волосы были соломенного цвета, уши оттопыривались. Говорил он на чистом берлинском диалекте и довольно сносно по-русски.