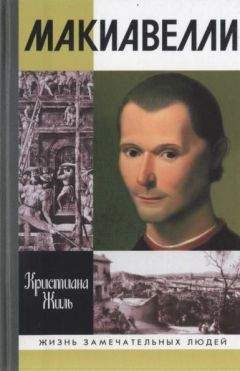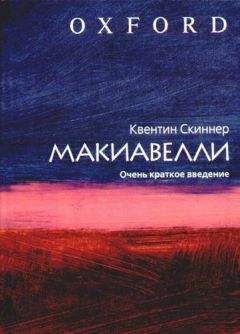Жан-Ив Борьо - Макиавелли
Какой же период охватывает история, посвященная «Святейшему и Блаженнейшему Отцу, господину нашему Клименту VII»? По первоначальному замыслу, Макиавелли собирался начать с прихода к власти Медичи в 1434 г. и завершить свой рассказ 1494 г., но, как известно, 1494-й оказался для семьи будущего папы плохим годом – Пьеро утратил свои властные позиции в городе и был вынужден удалиться в изгнание. Лучше было остановиться на 1492 г., когда скончался самый блестящий представитель клана Медичи – Лоренцо Великолепный. Макиавелли решил разделить свой труд на две части, в первой объясняя, почему Флоренцию ждет великая судьба, а вторую посвятив собственно истории города под властью Медичи: «Все эти первоначальные сведения как об Италии вообще, так и о Флоренции займут первые четыре книги. <…> В четвертой мы дойдем до 1434 г.». «В первой будут кратко изложены все события, происходившие в Италии после падения Римской империи и до 1434 г. Вторая охватит время от начала Флоренции до войны с папой после изгнания герцога Афинского. Третья завершится 1414 г. – смертью короля Неаполитанского Владислава… и начиная с этого времени будем подробно описывать все, что происходило во Флоренции и за ее пределами вплоть до наших дней». История, по мысли Макиавелли, имеет циклический характер и развивается, движимая двумя началами:
Поскольку уж от самой природы вещам этого мира не дано останавливаться, они, достигнув некоего совершенства и будучи уже не способны к дальнейшему подъему, неизбежно должны приходить в упадок, и наоборот, находясь в состоянии полного упадка, до предела подорванные беспорядками, они не в состоянии пасть еще ниже и по необходимости должны идти на подъем. Так вот всегда все от добра снижается ко злу и от зла поднимается к благу. Ибо добродетель порождает мир, мир порождает бездеятельность, бездеятельность – беспорядок, а беспорядок – погибель и соответственно – новый порядок порождается беспорядком, порядок рождает доблесть, а от нее проистекают слава и благоденствие (кн. V, гл. I).
Эта цикличность автору очевидна: не случайно книга первая начинается с рассказа о захвате Римской империи варварами, а заканчивается новым нашествием варваров, на сей раз французов (discesa).
В книге второй речь идет о событиях, имевших место во Флоренции и за ее пределами. Но зададимся вопросом: насколько был свободен в своих высказываниях историк, получивший от Медичи заказ на написание… истории Медичи? Ему приходилось действовать в крайне узких рамках и ни на миг не забывать об интеллектуальной «терпимости» заказчика, вернее о ее отсутствии. Свидетельством тому, что он прекрасно это понимал, служит его письмо другу-республиканцу Донато Джанотти:
Донато, я не могу писать историю от захвата государственной власти Козимо до смерти Лоренцо так, как если бы был совершенно свободен. Я буду описывать те события, которые действительно имели место, и ни одно не опущу, но говорить я буду только о тех вызвавших их причинах, которые носят самый общий характер, – больше я не в состоянии себе позволить. Так, я расскажу, что случилось после того, как Козимо утратил власть, но не стану говорить о том, как это произошло и какими способами люди добиваются власти. Тот, кто пожелает меня понять, должен будет вчитываться в речи его противников, ибо их устами я поведаю о том, о чем не могу поведать своими.
Как в этом случае мы должны отнестись к словам, которые он вкладывает в уста Ринальдо дельи Альбицци, изгнанного Медичи (в 1433 г. Альбицци удалось добиться изгнания Козимо) и явившегося ко двору герцога Миланского с просьбой напасть на Флоренцию, куда вернулся Козимо: «Лишь та родина заслуживает любви всех своих граждан, которой все они равно дороги, а не та, что лелеет немногих, отвергая всех остальных. <…> Справедливы лишь те войны, без которых не обойтись, и оружие спасительно, когда без него нет надежды» (кн. V, гл. VIII)? Чуть дальше читаем: «В предыдущих войнах ты действовал против целого города; теперь тебе предстоит воевать лишь с одной незначительной его частью. Ты хотел вырвать государственную власть у множества граждан, притом добропорядочных; теперь придешь, чтобы лишить ее немногих жалких личностей. Ты являлся к нам, чтобы обратить наш город в рабство, теперь явишься, чтобы вернуть ему свободу». А вот что Макиавелли пишет из Сант-Андреа в Перкуссине историку Франческо Гвиччардини 30 августа 1524 г., то есть незадолго до окончания работы над рукописью: «Я был, да и сейчас еще полностью поглощен составлением своей Истории и охотно уплатил бы десять грошей, но не больше, если бы вы приехали ко мне и я мог бы показать вам, что у меня получается; я затрагиваю некоторые вопросы, по которым мне хотелось бы выслушать ваше мнение; я боюсь, что чрезмерным восхвалением или, напротив, принижением кое-каких вещей вызову к себе недовольство». Таким образом, мы видим, что Макиавелли лавирует между необходимостью применяться к обстоятельствам и необходимостью соответствовать законам избранного жанра, то есть добиваться того, чтобы слова (verba) не противоречили вещам (res); это была старая проблема, доставшаяся Возрождению в наследство от Античности.
Макиавелли прекрасно знал труды своих древних предшественников; как мы уже упоминали, он уже в ранней юности внимательно изучил исторические труды Тита Ливия. Поэтому он старательно следует их заветам: подробно описывает битвы и сражения, не забывая о занимательности повествования. В пассаже, посвященном поражению флорентийского войска при Дзагонаре в 1424 г., читаем: «Однако же в этом разгроме, весть о котором распространилась по всей Италии, погибли только Лодовико Обицци с двумя сородичами, каковые упали со своих коней и захлебнулись грязью»; в описании битвы при Ангьяри[90] находим строки: «При столь полном разгроме, при том что сражение продолжалось четыре часа, погиб всего один человек и даже не от раны или какого-либо мощного удара, а оттого, что свалился с коня и испустил дух под ногами сражающихся» (кн. V, гл. XXXIII). Из последнего примера Макиавелли, впрочем, делает вывод, мало согласующийся с героической моралью своей эпохи: «Люди воевали тогда довольно безопасно: бились они верхом, одетые в прочные доспехи, предохранявшие от смертельного удара. Если они сдавались, то не для того, чтобы спасти свою жизнь – ведь их защищали латы, – а просто потому, что в данном случае сражаться было уже невозможно». Кроме того, в тексте приводится обращенная к гражданам речь Лоренцо, с которой он выступил после провала заговора Пацци (кн. VIII, гл. X); даны портреты выдающихся деятелей, например Козимо (кн. VII, гл. VI) или того же Лоренцо (кн. VIII, гл. XXXVI). Автор реконструирует речь одного из приоров Синьории, представляющую собой гимн свободе и обращенную к герцогу Афинскому, воплощавшему образ абсолютной тирании: «Вы хотите обратить в рабство город, который всегда жил свободно, ибо власть, которую мы в свое время вручали королям Неаполитанским, означала содружество, а не порабощение. Подумали ли вы о том, что значит для такого города и как мощно звучит в нем только слово «свобода»? Слово, которого сила не одолеет, время не сотрет, никакой дар не уравновесит?» (кн. II, гл. XXXIV). Он приводит также речь «человека из низов» о равенстве бедных и богатых: «Если и мы, и они разденемся догола, то ничем не будем отличаться друг от друга, если вы оденетесь в их одежды, а они в ваши, то мы будем казаться благородными, а они простолюдинами, ибо вся разница – в богатстве и бедности» и его же скептические слова о политике: «Когда виновных слишком много, они остаются безнаказанными: мелкие преступления караются, крупные и важные вознаграждаются. <…> Не следует пугаться ни раскаяния, ни стыда, ибо победителей, какими бы способами они ни победили, никогда не судят». Особого внимания удостоены речи, произносимые выдающимися личностями на смертном одре, например завет, данный сыновьям умирающим Джованни Медичи: «Ничто в этот час не утешает меня так, как сознание, что я не только не нанес кому-либо обиды, но по мере сил своих старался делать добро. Призываю вас поступать точно таким же образом. Если вы хотите жить спокойно, то в делах государственных принимайте лишь то участие, на какое дает вам право закон и согласие сограждан».
Что касается истории «международных отношений» Италии с другими государствами до 1494 г., суждение Макиавелли по этому вопросу вызывает некоторую оторопь, поскольку он сводит ее к инициативам «праздных властителей и вооруженных трусов». По его мнению, эта история нужна лишь для того, чтобы лучше разобраться во внутренних делах самой Флоренции, о чем он прямо заявляет в предисловии: «Не имея намерения вторгаться в чужую область, я буду обстоятельно описывать лишь внутренние дела нашего города». Отсюда рваный, лишенный последовательности ритм изложения, в результате чего складывается впечатление, что внешняя политика представляет собой хаотическую череду ничем не связанных между собой событий, проистекающих от алчности правителей тех или иных городов или империй. Напротив, внутренняя жизнь города-государства отличается строгой логичностью, поскольку развивается по своим законам, определяемым распрями. История города – это прежде всего история «гражданских раздоров и внутренних несогласий». По мнению Макиавелли, это благотворное начало, препятствующее застою; он убежден, что бывают «добрые» и, к несчастью Флоренции, «злые» раздоры, приводящие к расколу: «Во Флоренции раздоры возникали сперва среди нобилей, затем между нобилями и пополанами и, наконец, между пополанами и плебсом. И вдобавок очень часто случалось, что даже среди победивших происходил раскол. Раздоры же эти приводили к таким убийствам, изгнаниям, гибели целых семейств, каких не знавал ни один известный в истории город».