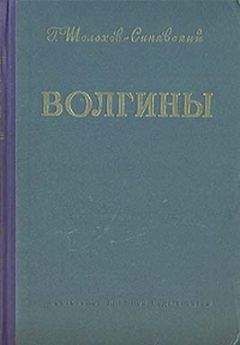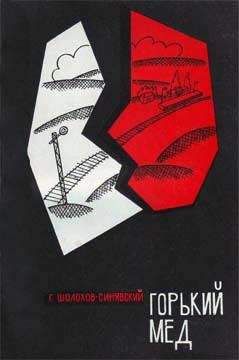Георгий Шолохов-Синявский - Отец
В парк нас не пустили — нужны были какие-то особенные билеты, да и одежонка на нас была далеко не праздничная, деревенская.
И вот тут-то отец разорился: купил билеты в синематограф, который помещался где-то неподалеку от городского сада. То, что я увидел в нем, как бы завершало все сногсшибательные городские впечатления. На белой стене зажегся голубоватый квадрат, потом под музыку побежали по нему надписи, появились дома, живые люди, экипажи, лошади. Немые люди двигались очень быстро, гораздо быстрее, чем в жизни, и все делали молча — они преследовали друг друга, стреляли из пистолетов, а один забрался в чью-то спальню и под веселую музыку зарезал громадным ножом молодую красивую женщину. Тут я заорал на весь зрительный зал благим матом. На меня зашикали, кто-то засмеялся, а отец, прижав меня к себе, поспешил успокоить:
— Да ведь это только туманные картины. Не бойся, сынок…
Но я долго не мог успокоиться и, наверное, вел себя, как дикарь, оглушенный невиданными чудесами цивилизации. Вышел я из театра словно одурелый — все люди казались мне немыми туманными призраками и… убийцами.
Потом я оправился от первого, точно с силой ударившего меня по голове, впечатления от кино и на обратном пути в поезде и дома хуторским ребятишкам представлял в движениях все похождения героев фильма.
Книжный магазин поразил меня невиданным количеством книг. До этого я не представлял себе, что на свете существует столько книг и что те из них, которые отец изредка покупал мне — только жалкая капля в море. Я был буквально подавлен видом заставленных книгами полок.
— Вырастешь большой, станешь больше грамотным, будешь все это читать, — пообещал мне отец.
Я взглянул на его лицо. Мне показалось, что по нему блуждала грустная усмешка. Может быть, он и сам сожалел, что представшие перед нашими глазами залежи человеческих знаний покоились, как недостижимый, за семью печатями, клад?
Игрушечный магазин, куда отец повел меня не столько для того, чтобы купить игрушку, а лишь поглазеть и удивить чудесами человеческой изобретательности, восхитил меня не меньше, а может быть, и больше, чем книжный. Я буквально прирос к полу у стойки и, наверное, стоял бы с разинутым ртом весь день, если бы не осторожный толчок отца.
Все эти громадные разноцветные мячи, разряженные куклы, колясочки в кружевных фестончиках, кони с всамделишными гривами, ружья, стреляющие пробками пистолеты и трехколесные велосипеды сразу полонили мое воображение, вызвали детскую острую зависть. Но я не мог просто сказать, как говорят теперь многие дети: «Папа, купи!» Я только стоял и ошалело глазел на все это великолепие, вспотев от волнения.
За исключением дешевых жестяных и глиняных дудочек и свистулек, у меня не было ни одной покупной игрушки. Это были хотя и грубо, но добротно сделанные тележки — в них можно было ездить и в грязь и по камням, они скрипели, как настоящие крестьянские телеги, но не ломались; молотилка, которая молотила хлебные колосья; ветряная мельница с толчеей и просорушкой (целый агрегат), она могла работать при ветре часами, монотонно пошумливая деревянным жерновом и стуча колотушками.
У меня было и двуствольное разламывающееся ружье, в стволы которого вставлялись настоящие ружейные патроны; только оно не стреляло. Были у меня игрушечные пароходы и лодки, пилы, топоры, рубанки и тряпичные мячи, сшитые из лоскутков матерью, но такого красочного великолепия я еще не видел.
Теперь я подозреваю: отец всегда строил игрушку так, чтобы она учила какому-то практическому делу в жизни, а не просто служила забавой.
На этот раз отец купил мне дешевенький пистолет, стреляющий бумажными пистонами, на том и закончились наши приобретения. Я был рад пистолету и бумажным пистонам, но на душе было неспокойно. Долго после этой поездки грезились мне городские игрушки. Я мечтал и о коне с настоящей волосяной гривой, и о велосипеде на трех колесах, и о громадном красно-синем мяче, опущенном в нитяную сетку… Но что поделаешь!
Словно угадав мои мысли, отец мягко умерил мои мечтания. Вздохнув, он сказал мне при выходе из магазина:
— Игрушки-то хорошие, сынок, но дорогие. Очень дорогие.
Слово «дорого», помнится, рано вошло в мое сознание — оно как-то успокаивало, оправдывало нашу бедность. «Есть квас, да не про нас», — говорила в таких случаях мать.
Не только светлыми впечатлениями наградил меня в эту поездку город, но и безобразными. Справившись с делами, отец и я приехали на вокзал, но опоздали — все билеты на наш поезд были проданы, и тут в грязном, с висящими клубами табачного дыма зале третьего класса я увидел такую, навсегда поразившую меня картину. Двое сезонников в серых из домотканой материи зипунах, сидя прямо на полу, на своих сундучках, готовились распить бутылку водки. Вихрастый малый уже вышиб пробку, бутылка выскользнула из его рук, упала на плиточный пол и разбилась на мелкие осколки. Водка разлилась по грязному, заплеванному полу мутной лужицей. Парень побледнел, как мертвец, сидел с разинутым ртом, схватившись за голову. Еще бы! Нелегко пережить такой убыток!
Пожилой партнер его с сивой взлохмаченной бородой, ничего не говоря, развернулся и трахнул со всего плеча парня в ухо кулаком.
— Разиня! Язви тебя в корень! — от всей души выругался бородач и тут же, мелко перекрестившись, лег на пол вниз лицом и стал схлебывать лужицу, приговаривая: — Эх-ма! Не пропадать же святой водичке.
Парень, очумев от удара, некоторое время тупо глядел на своего компаньона, но сообразив, что на его долю не останется и того, что пролито, сам припал к лужице.
В это время мимо, заложив за спину руки, важно проходил высокий плечистый жандарм в желтых аксельбантах, с шашкой и револьвером у пояса. Ухмыляясь, он с минуту смотрел на мастеровых и вдруг подошел к ним, стал толкать пожилого носком сапога в затылок, говоря:
— Осколки-то хоть подбери, чернь неумытая, губы порежешь!
Бородач, не обращая внимания на толчки жандарма, продолжал схлебывать с пола водку.
Отец увел меня в сторону от этой безобразной сцены, сказал с огорчением:
— Эх! Ну и жаден до водки наш брат.
Слова «наш брат» прозвучали так же обидно, как «чернь неумытая». Они точно проводили незримую черту между миром богатых и чистых и таких, как мы, то есть «черни», людей в грубой одежде и словно с какой-то темной печатью на лицах…
Я видел на улицах чистых и богатых людей, их презрительные, а иногда сожалеющие взгляды, останавливавшиеся на нашей одежде, видел высокие красивые дома, куда мы с отцом не могли зайти, видел одежду, книги и игрушки, которых мы не могли купить. Нас не пустили в парк Коммерческого клуба только потому, что отец и я были бедно, по-деревенски, одеты.