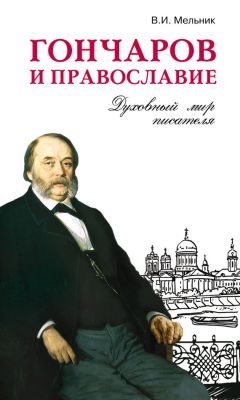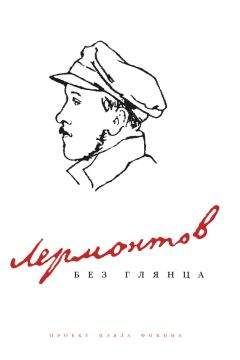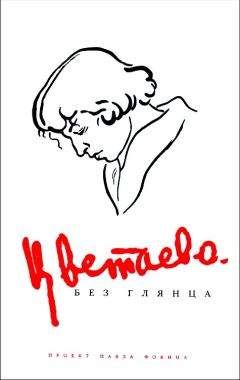Павел Фокин - Гончаров без глянца
Гончаров.
Иван Александрович Гончаров — Елизавете Васильевне Толстой. 11 октября 1855, вечером. В Санкт-Петербурге:
Не сетуйте, что, несмотря на магнетизм Ваших глаз, на вибрацию вашего голоса, чем всем Вы так могущественно на меня действуете и чем Вы выразили (невольно) желание, чтоб я почал альбом, я написал такое неловкое приветствие Вашей кузине. Вспомните, что неловкость есть один из признаков большой… дружбы, и снизойдите к моему бессилию. Убедитесь из этого, что у меня не всегда хорошо — слог. О причинах не распространяюсь, между прочим, и потому, что спать хочу. Завтра, может быть, буду умнее, в таком только, впрочем, случае, если не увижу Вас, но как от этого мне было бы скучнее, то пусть я буду лучше терпеть горе не от ума, а от глупости, лишь бы видеть вас в исходе шестого часа.
Иван Александрович Гончаров — Елизавете Васильевне Толстой, 17 октября 1855. В Санкт-Петербурге:
Желание быть Вам приятным и заботливость о Ваших удовольствиях сделались моею господствующею обязанностью. Но вот случай, где не знаю, как и быть. Ложи есть, но Майковы определили обыкновенную цену, а билеты стоят вдвое (10 и 15 р. сер.). Меня это не останавливает, но как, даже в глазах близких друзей, не нарушая так назыв<аемые> приличия, купить себе право доставить Вам удовольствие? Я сказал Старику однако ж так, что если будет ложа, то Вы и я заедем за ними не позже 6 часов, а если нет, то Вы проведете последний вечер в кругу друзей, т. е. у них. Сам же я полагаю распорядиться так: заеду к Вам в 5 часов узнать Ваше мнение об этом щекотливом вопросе и, если Вы захотите ехать в театр, несмотря ни на что, я съезжу за билетом (билеты будут: их неохотно покупают, дороги, а спектакль неизвестен) и ворочусь за Вами в экипаже, если же Вы пожелаете провести последний вечер в кругу друзей, то не угодно ли отправиться к Евг. Петров. (Майковой. — Сост.). Часу в седьмом: и позволить мне проводить Вас туда и обратно в экипаже — погода нехороша.
Надеюсь, Вы позволите мне видеть Вас хоть четверть часа у Вас или в карете, по дороге к Евгении Петровне — нигде больше: не бойтесь — Бог с Вами. Ни умыслов, ни сетей, ни птицеловства, о которых Вы не постыдились намекнуть мне вчера, а есть только одно неодолимое желание заслужить Ваше доброе мнение и никогда не терять его, приобресть Вашу дружбу и быть ею счастливым.
У меня хандра, хандра. Я Вас не узнал вчера и не понял: послеобеденная задумчивость, будто бы от избытка здоровья, и эти намеки… Утешаюсь, что это не Ваше, не в Вас выросло, а так, навеяно со стороны, с намерением, конечно, добрым, но излишним в этом случае. Прощайте. Какой у меня несчастный, мнительный характер! Не правда ли? До 5 часов.
Иван Александрович Гончаров — Елизавете Васильевне Толстой. 20 октября 1855. Из Санкт-Петербурга:
Тотчас после Вашего отъезда я послал к М-me Якубинской за салопом, но ее целый день не было дома, и она прислала салоп на другой день рано утром, а я в ту же минуту отослал его к г-ну Соболевскому, который возвратил его мне и отвечал, что вещей очень много и взять салопа нельзя. Вот если б прислали вчера… Не взять Вашего салопа — гнуснее поступка не может быть в нравственной природе человека! Я отправил сегодня посылку к Юнии Дмитриевне с просьбою отослать с кем-нибудь из знакомых инженерных офицеров в Москву и доставить к Вам, в дом г-жи Колошиной. К этому я приложил присланную из дома Олсуфьевых какую-то наволочку и принесенные от переплетчика Ваши книги (5 том<ов>) Феваля (ужели Вы любите этого автора?). Юния Дм<итриевна>, по доброте своей, охотно взялась сделать все, что можно.
Обо всем этом имею честь Вас уведомить.
Всем без Вас скучно, не скажу — кому более всех: при всей моей просвире к Вам — не могу изменить чужому секрету.
Он даже насильственно, почти посредством преступления, овладел вашим портретом. Я сегодня целый день был у Евгении Петр. И присутствовал при этой сцене: презабавная. Он зашел к Левицкому (Петербургский фотограф. — Сост.) узнать о портретах: они были не готовы, кроме сказанного. Но подмастерье Левицкого стер подлинник со стекла, думая, что он не нужен, так что теперь повторить его, без Вас, нельзя. Он взял портрет и принес его к Николаю Аполл. И объявил, что у него отнимут этот портрет не иначе, как если «зарежут или отравят его самого, словом, возьмут через труп». Потом прибавил, что, для снятия копии масляными красками, он может ссудить портрет, под строгим честным словом, на некоторое время и потом возьмет к себе. Евг. П. рассердилась на него, закричала, как «он смеет брать чужую вещь», а Николай Ап. смеялся и великодушно уступил. Евг. П. заметила, что будут другие портреты, зачем ему именно этот. «Этого ни у кого не будет — заметил он — а те она раздарит другим»… «Как Вы смеете думать, что она станет раздаривать…»
(продолжение впредь)
Я написал было на том листке целую сцену, но оторвал другую половинку и пришлю ее не прежде, как если Вы изъявите желание читать дальше и если уверите, что письма доходят до Ваших рук прямо и непосредственно. Это нужно знать потому, что в описываемой мною сцене заключается как Ваша характеристика, так и других лиц оставленного Вами небольшого кружка друзей, которые, может быть, не захотели бы, чтобы о разных чертах их характера знали другие, кроме Вас. Напишите же, долго ли Вы остаетесь в Москве, прислать ли Вам продолжение письма и посылать ли по Московскому адресу? <…>
Тургенев, у которого я был вчера, спрашивал меня: «Скажите, какая прекрасная женщина живет у Майковых и можно ли там увидеть ее?» Я показал ему шиш. Вчера у Евг. Петр, обедала Юлия Дм., Старик с женой <…>, вечером пришел Аполлон с Анной Ивановной. Нужно ли говорить, как живо присутствовали Вы в воспоминаниях, как говорили о Вас, как вырывали у чудака Ваш портрет из рук и как он энергически защищал его.
Обратите внимание на оторванный лист: памятен ли он Вам?
Прощайте. Зачем не могу сказать — до свидания.
Всегда Ваш Гончаров.
Иван Александрович Гончаров — Елизавете Васильевне Толстой. 25 октября 1855. Из Санкт-Петербурга:
Как благодарить Вас, изящнейший, нежнейший друг, за торопливую, милую весть о себе? Кинуться Вам в ноги и в умилении поцеловать одну из них, а буде можно, то и обе — Вы не велите, находите это унижением, а я вижу тут только понижение, взять одну из Ваших рук и почтительно-страстно приложиться к ней: пальцы закованы в броню колец, которые охлаждают пыл поцелуя. Заплакал бы от радости, да кругом все чиновники, а я на службе был (когда пришло письмо), подумают, не рехнулся ли я. Но Вы поймете и без всего этого, как я рад: faut-il encore mettre les points sur les ii[26]? Но не думайте однако ж, что Вы первая вспомнили обо мне, а не я о Вас, что Вы первая написали ко мне, а не я первый к вам: доказательство должно быть давно в Ваших руках — это мое письмо. <…> Вы не подозревали, конечно, что навстречу Вашему письму неслось уже мое, не чувствовали, что за Вами помчалась моя неотступная мысль, летала, как докучливая муха, около поезда, врывалась нескромно в семейный вагон, тревожно отыскивая Вас среди узлов, мешков, ребят, старых и молодых княгинь, успокаивалась подле Вас час, два, потом усталая, измученная, летела в столь любимый Вам Петербург и теперь ревниво допытывается, к кому направлены Ваши наиболее горькие сожаления, о ком были Ваши слезы?.. Нет, не догнать, не предупредить и не опередить Вашей дружбе мою, не переспорить меня в этом. <…> Ваша дружба — как легкий, прохладный ветерок в летний день, нежит, щекочет нервы, приятно шевелит их, как струны, и производит музыку во всем организме. Моя — как воздух проникает всюду, всего касается, заходит в легкие: надо уйти на дно морское, чтобы защититься от него. Хорошо, если б она сделалась такою же необходимостью для Вас, как воздух, чтобы Вы не пожелали, в защиту от него, обратиться в рыбу. «Вы плакали», пишете Вы, а о чем? <…> Знаете, как мне жаль, что я не видал Ваших слез никогда: мне не достает их для полноты очерка всей Вашей физиономии. Если бы Вы были здесь, я готов бы был разобидеть Вас, чтобы Вы заплакали, чтобы поглядеть, как из Ваших глаз «сыплются эти перлы», сказал бы поэт, и то восточный. Особенно хотелось бы видеть эти слезы, о которых Вы пишете, сосчитать, сколько их пролито вообще, досталось ли на мою долю, и если досталось, то сколько именно. Смекните на досуге и уведомьте об итоге поаккуратнее. Вы отвечаете на это всегда, что «слезы портят лицо, глаза красны» etc. Да Боже мой: разве только хороши сухие и ясные глаза? Рисовать — так, но чтоб не забывать никогда таких глаз, как Ваши, нужно изредка видеть их плачущими. Вы знаете — к чему проводник — слезы, но Вы не хлопотали о том, чтоб я не забывал Ваших глаз, оттого, конечно, никогда и не показывали слез.