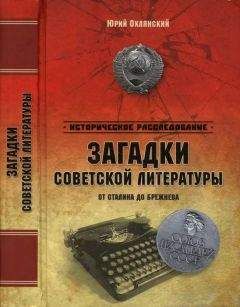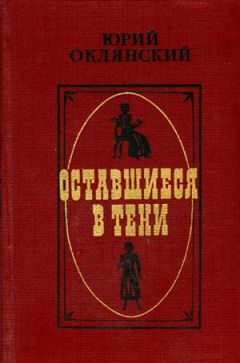Юрий Оклянский - Федин
— Все твердишь: роман, роман… А почитал бы чего-нибудь оттуда? — вставил Толстой.
— А тебе хочется? — напрягся Федин.
— Зря бы не просил…
— Тогда, может быть, и почитаю… Как раз везу кусок от машинистки…
После обеда, за которым было немало съедено и набалагурено, Толстой, метнув неожиданно твердый взгляд, напомнил:
— Так ты обещал из романа почитать? Пора, Костя!
Федин потянулся к портфелю, долго шелестел бумагами, раскладывая и подбирая страницы. Все-таки прежде читать наедине Толстому ему не приходилось. И кто знает, как это могло повлиять на их установившиеся отношения.
— Ну вот, если угодно, отсюда… — нерешительно предложил он. — Эта часть называется «На взвозах». Пожалуй, и к сегодняшнему разговору кое-какое касательство имеет. Речь идет о трудностях выбора и осуществления призвания. Каждый из героев проходит тут свои «взвозы», свою дорогу испытаний, напряжения и мук, — объяснил он. — Молодой революционер, большевик Родион Чорбов попадает под первый арест и отныне «пошел гулять по острогам», как предрекает ему товарищ по камере. Никита Карев, будущий композитор, с ужасом обнаруживает новые трудности в избранной профессии, тащится сквозь тяготы и отчаяния пожизненного своего «послуха» в искусстве. А Варвара Шерстобитова, купеческая дочь, красавица, она женщина, и для нее ее «взвозы» — чувство, любовь…
— Приступай, Костя, не томи! — подогнал Толстой.
Откашлявшись, Федин принялся читать. Постепенно он забывался, одухотворялся. Это было в нем актерское: он словно бы переставал помнить, что текст его собственный, а, произнося, следил только, как он звучит. Он читал звучно, немного нараспев, будто в комнате был не единственный слушатель.
Сначала о том, что Никита Карев живет в Дрездене, учится своей профессии… Как мучительно трудно сделать выбор, найти и занять свое место в музыке… Затем — о самоубийстве музыканта-неудачника Верта. О спасительной для Никиты встрече с Анной, которая помогла ему в трудный момент на чужбине не потерять самого себя. О первой каникулярной поездке из Германии на родину, о разгульном и красочном зимнем багрении осетров на реке Урал, о неожиданном, чуть не прилюдном признании в любви, которое делает ему долголетняя их соседка, волевая и своенравная Варвара Шерстобитова…
Федин кончил читать. Поднял от листа отуманенные глаза, разгоряченное лицо.
Помолчали. Федин выжидал.
— В последней сцене есть, пожалуй, излишняя символика. Отвергнутая Варвара убегает вверх по прибрежному откосу — и ее «взвозом» была любовь… — произнес Толстой. — Удары медных тарелок назойливы. Но в целом в точку! Время культурной революции… А серьезных книг на эту тему не так уж много. Ты одним из первых говоришь о чертовской сложности процессов. Это и есть, пожалуй, ответ — превзойдешь ли ты «Братьями» «Города»… Получается!.. Молодец! — подумав, закончил он.
Карие глаза Толстого светились увлажненной теплотой. Он, кажется, даже помолодел с лица, весь подобрался, ласков стал, будто уважили в главном:
— Долгих лет твоим «Братьям», Костя, всем вместе и каждому в отдельности!..
— Люблю, понимаешь, когда сочно написано, с мясом и вкусом, когда жизнь переливается всеми красками и блестками, — говорил он чуть погодя. — А то иногда суют тебе книжицу, серую, как засушенная вобла, зубы скорей поломаешь, чем разгрызешь… И какое у тебя это слово хорошее — «взвозы» — наше, волжское! Речной свежестью пахнет и конским потом…
— Десять уже! — взглянув на часы, сообщил Федин.
— Неужто набежало? — удивился Толстой. — Впрочем, десять — что за час? Самое время поговорить…
— Нет, мне пора! — Федин встал и начал собираться.
— А чайку! — взметнулся Толстой. — Какой у меня чай! Английский, по оказии добыл. С Цейлона везли на шхуне, в деревянных коробках и ящиках. Кругом одно дерево и чтобы по соседству никакого железа. Такой чай, знаешь, портится от железного запаха. Это даже и на этикетке написано. Нежный, как роза, и тропиками шибает. Соловьиная песня! Потроха прополощем, в облака взвинтимся и души сольем! А?..
— Нет… — берясь за портфель, возразил Федин. — Завтра работать надо!
— А трубочку, папироску, одну только! — простонал Толстой. — Выкурим на дорогу, колечки попускаем, в потолок полюбуемся — и поедешь…
— Нет! — решительно объявил Федин.
— Экий ты бессердечный человек, Костя! Классный надзиратель, сухарь! Приехал навестить больного товарища и вмиг улетаешь! Что ж, ладно… Добивай, коли не жалко!
На пороге своей квартиры Толстой вдруг посерьезнел. Расставаться сразу было не в его правилах. Они еще постояли в прихожей с четверть часа, перебрасываясь с одной темы на другую. Толстой все порывался проводить друга. Но Федин наотрез не пустил.
В енотовой шубе и круглой шапке-«боярышнице» с темно-синим бархатным верхом, в которые Алексей Николаевич уже облачился, с большим тяжелым лицом и умным, проницательным взглядом сквозь стекла роговых очков, он на какое-то мгновение напомнил Федину портретного Толстого, классика, каким его представляла широко распространенная фотография…
…В 1926 году, тридцати четырех лет от роду, Федин решился наконец осуществить давнюю заветную мечту. Он оставил последнее короткое место службы (заведующего редакцией художественной литературы Ленгосиздата), чтобы целиком вверить судьбу семейства и свою собственную переменчивой фортуне писательского труда.
До этого, даже после шумного успеха «Городов» и вызванных им переизданий, он все еще колебался. Писал он медленно, трудно. Уступать же чужим требованиям и вкусам, сочинять «по случаю», для «рынка», что легко бы обеспечило высокие гонорары, не мог. Литературное ремесленничество для него было отделено запретной чертой от той делянки, на которой трудится настоящее искусство.
Вместе с тем мыслил трезво, понимал, что немало уже упущено, время бежит и другой жизни не дадут. Рисковать легко в юности, когда один, да и хорошенько не представляешь последствий.
Его иждивение обеспечивало еще троих — жену, четырехлетнюю дочь Ниночку и тещу Розу Михайловну. Была ленинградская пятикомнатная квартира, почти в самом центре города, на последнем этаже кирпичного облупленного дома, с окнами во двор. Квартира была старинная, родительская, не своя, в укладе которой еще многое продолжалось так, как повелось при покойном тесте. Зато самая маленькая комнатка в ней безраздельно принадлежала Федину. С полками любимых книг, письменным столом, тетрадями, заготовками, рукописями. Его кабинет.
В соседней гостиной (она же столовая) стояло пианино Доры Сергеевны. Там же собирались многочисленные ленинградские друзья-приятели, которых весело и интересно принимали в доме. В Саратове жила больная туберкулезом сестра Шура с преданным и мотавшимся между тремя службами мужем Николаем Петровичем Солониным. Оба они старались вывести в люди, дать образование взрослевшим сыновьям Шуры. Федин по мере сил помогал.