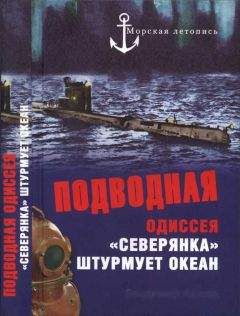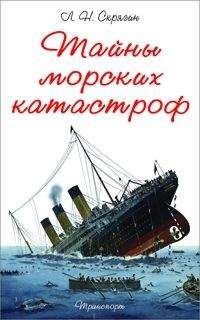Иван Бунин - Том 6. Публицистика. Воспоминания
Алданов вспоминает слова Байрона, что «мысль есть ржавчина жизни», что «рассуждение противно природе человека», что «рассуждение — демон», говорит, что в Эпоху создания «Войны и мира» Толстой был недалек от байроновского воззрения, бессознательно, может быть, следовал инстинкту самосохранения, смутно предвидел, куда, к каким жертвам приведет его «демон» Байрона, и отмечает противоположность двух семей — семьи Болконских и семьи Ростовых (иначе говоря, семьи Волконских и семьи Толстых): в первой всегда у всех идет напряженная духовная работа, мысль, «рассуждение», а во второй никогда и никто не мыслит; и что же? все Болконские несчастны, а все Ростовы блаженствуют. По мнению Алданова, Толстой и сам прекрасно знал это, Алданов видит одно из значений «Войны и мира» в том, что в ней есть борьба Толстого против байроновского демона, борьба и за себя, как наследника Волконских, и вообще за всех, этому демону преданных: «Ах, душа моя, — говорит Пьеру князь Андрей накануне рокового для него дня Бородинской битвы, — последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла». Тут Алданов прав. Но ведь не «вкушать» ни князь Андрей, ни сам Толстой не могли. А это и вело и привело их обоих к «звездному небу».
XXI
«Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя». Нет, не только вокруг самого себя, но и вокруг всего на свете. И что же оказалось на свете? Кроме одного того, «чем люди живы», все оказалось «не то» и «не так», и настало одиночество, которого не бывает ни под землей, ни на дне морском, говоря его собственными страшными словами.
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои, —
не раз повторял он в последний год своей жизни.
Какие чувства и какие мечты? От всех чувств и от всех мечтаний осталось теперь, на исходе поганую плоть, ненавижу себя (телесного)… Всю ночь не спал. Сердце болит, не переставая. Молился, чтобы Он избавил меня от этой жизни… Отец, покори, изгони, уничтожь поганую плоть. Помоги, Отец!
Молитва — не просьба, любил он говорить. Но что же это, как не просьба? И сколько их, этих просьб, в его дневниках, особенно в дневнике 1910 года? И к кому они, эти просьбы? К какой-то «абстракции», каковой, по общему мнению, будто бы был для него бог? Но кто же молится абстракции? И можно ли иметь к абстракции живую, нежную, сыновнюю, радостно утешающую любовь, которая то и дело переполняла его душу в самые сокровенные и жуткие минуты ее?
— Лежал, засыпая; вдруг точно что-то оборвалось в сердце. Подумал: так приходит смерть от разрыва сердца, и остался спокоен, — ни огорченья, ни радости, но блаженно спокоен; здесь ли, там ли, — я знаю, что мне хорошо, — то, что должно, — как ребенок на руках матери, подкинувшей его, не перестает радостно улыбаться, зная, что он в ее любящих руках.
* * *Князь Андрей спрашивает:
«Чего ждать там, за гробом?»
Алданов, вспоминая этот вопрос, говорит, что Толстой отвечает на него так:
— Возвращения к Любви.
И это наводит Алданова на такие мысли:
— Одна из самых страшных фантазий Гойа изображает судорожно искривленную руку, протянутую из-под камня пустынной могилы, отчаянно цепляющуюся за что-то — за пустоту; подпись гласит одно слово: Nada. Ничто… Подпись, сделанная Толстым, — возвращение к Любви, — много ли она лучше, чем «Nada»? Может быть, «через двести — триста лет», как говорит Вершинин у Чехова, наступит черед «толстовства». А дальше? А дальше все равно все пожрет смерть…
Но, повторяю, как понимает Алданов толстовство? По Маклакову, «бог был для Толстого только непонятная начальная сила; бессмертие духа — простое признание факта, что наша духовная жизнь откуда-то появилась и, следовательно, куда-то уйдет; а ведь вера есть не столько знание истины, сколько преданность ей, и Толстой сам любил повторять эти слова Ивана Киреевского… Толстой пошел против церкви, отвергнув религиозное мировоззрение, и пошел против мира, отвергнув взгляды мира на жизнь…» Так, очевидно, думает и Алданов, хотя что же тогда оставляет он с Маклаковым Толстому? Толстой отверг мировоззрения и мира и религии? Но зачем же отвергать мировоззрения мира, если отвергнуто мировоззрение религиозное? «Толстой повторял слова Киреевского». Пусть повторял: духовно жил он все-таки в полной противоположности этим словам — именно «преданностью», а не «знанием», о чем сказал еще в «Исповеди», отвергнув «знание» в деле веры. Nada! Для ума, разумеется, Nada. Но люди находят спасение от смерти не умом, а чувством.
— Никто же да убоится смерти: свободи бо нас Спасова смерть…
— Смерти празднуем умерщвление… инаго жития вечнаго начала…
Так поет церковь, отвергнутая Толстым. Но песнопений веры (веры вообще) он не отвергал. Что освободило его? Пусть не «Спасова смерть». Все же «праздновал» он «Смерти умерщвление», чувство «инаго жития вечнаго» обрел. А ведь все в чувстве. Не чувствую этого «Ничто» — и спасен.
«В будущую жизнь он верил плохо», — говорит Алданов. И приводит его собственные слова: «Как-то спросил себя: верю ли я? И невольно ответил, что не верю в определенной форме…» Но ведь так говорил он только в те минуты, когда «спрашивал себя». Не эти минуты спасали его: спасали те, когда он не спрашивал.
Мой старый друг доктор И. Н. Альтшуллер пишет мне:
«Когда читал Ваши статьи о Толстом, вспомнил ночь в Крыму, на Гаспре, когда я один сидел около тяжко больного Льва Николаевича. Мы, врачи, тогда почти потеряли всякую надежду, и сам он, по-моему, убежден был в неизбежности конца. Он лежал, и, казалось, был в полузабытьи с очень высокой температурой, дышал очень поверхностно, и вдруг слабым голосом, но отчетливо произнес: „От тебя пришел, к тебе вернусь, прими меня, господи, — произнес так, как всякий просто верующий человек“».
Париж, 7.VII. 37
О Чехове*
I
Мы сидели, как обычно, в кабинете Антона Павловича и почему-то заговорили о наших крестных отцах:
— Вас крестил генерал Сипягин, а вот меня купеческий брат Спиридон Титов. Слыхали такое звание?
— Нет.
И Антон Павлович протянул мне метрическое свидетельство. Я прочел и спросил:
— Можно переписать его?
— Пожалуйста.
«Запись в метрической книге Таганрогской соборной церкви:
„1860 года месяца Генваря 17-го дня рожден, а 27-го крещен Антоний; родители его: таганрогский купец третьей гильдии, Павел Георгиевич Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна; восприемники: таганрогский купеческий брат Спиридон Титов и таганрогского третьей гильдии купца Дмитрия Сафьянополу жена“».