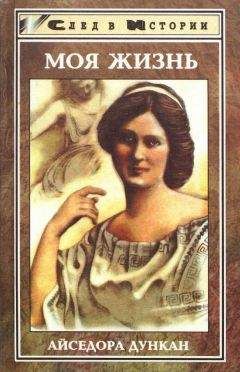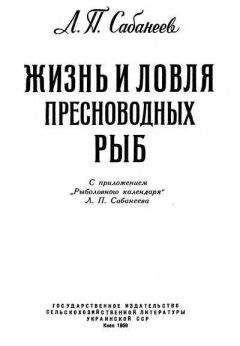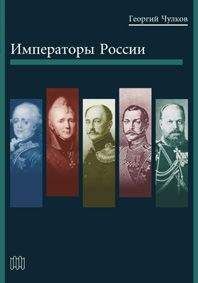Леонид Сабанеев - Воспоминание о России
Но если мне и доводилось вести с ним беседы в подобной научной области, то на беседы музыкальные с ним я не отваживался, даже и тогда, когда уже был не мальчиком, а студентом: я слишком ясно представлял, что при определенном расхождении основных точек зрения на музыку и при известной нетерпимости Толстого к несогласным высказываниям разговор станет спором, а спорить с Толстым было как-то неуютно, да и бесплодно. Не убеждавшийся даже научными аргументами, более непреложными, он тем менее мог убедиться аргументами эстетическими… Даже Танеев, более меня авторитетный в музыке, более зрелый и более «согласный» в основных чертах с Л. Н., старый знакомый, почти друг дома, и тот не отваживался, несмотря на свою прямолинейность и независимость, спорить с Толстым о музыке и всегда как-то стушевывался и говорил лишь, когда знал, что его мнение не идет вразрез с мнением Л. Н., или когда он знал, что у Толстого вовсе по данному вопросу нет мнения. Я думаю, что для показания стиля толстовского «звукосозерцания» его «Крейцерова соната» остается самым веским документом: музыка, воспринятая как наваждение, как наркоз, в атмосфере которого зреет грех, как нечто, способствующее чувственному соблазну. Нам, музыкантам, казалось всегда удивительным, почему Толстой выбрал для иллюстрации этих соблазнительно-греховных способностей музыки сонату Бетховена, автора, столь далекого от чувственности, скорее аскетического по стилю, и в частности эту его скрипичную сонату, трагическую в своей значительной части (в той именно, которой приписывается Толстым такая греховная «магия»). Музыкальная литература обладает очень большим запасом действительно эротических примеров, музыки, действительно насыщенной чувственностью и способной на такой психологический эффект. Но – Бетховен!.. Я часто задумывался над этим ярким примером того различия, с каким одна и та же музыка действует на людей различной музыкальной подготовленности. Толстой в общем не так уж «любил» эту сонату; она для него была слишком полна наваждением и непонятными и оттого враждебными чарами, хотя она неизменно попадала в программу «любимых» его вещей. Возможно, что с этой сонатой у Толстого были связаны личные воспоминания эротического характера (некоторые детали в «Крейцеровой сонате» Толстого наводят на эту мысль), раз образовавшись, они для него уже навсегда связались с ее музыкальной тканью. Возможно и то, что Толстой, человек «сороковых годов», конечно, имел совершенно иное «звукосозерцание», непохожее на наше, которое развилось уже в эпоху Вагнера, Шумана, Листа. Для нас Бетховен был классиком с момента нашего рождения: для Толстого Бетховен был «новым» автором, примерно как для меня Вагнер, ибо Бетховен умер за год до рождения Толстого.
Очень может быть, что тогда эта музыка воспринималась всеми как непомерно страстная, безумная, стихийная, анархическая.
Раз мы коснулись «Крейцеровой сонаты», то необходимо вспомнить и о той роли, которая в последнее время часто приписывалась Танееву в качестве побудительного повода для создания этого произведения. Указывалось, что будто Танеев был чуть ли не оригиналом «героя» повести и что его «роман» с графиней Софьей Андреевной был той реальной канвой, которая подала Л. Н. повод к написанию «Крейцеровой сонаты». Чрезвычайно трудно разбираться вообще в мотивах и в реальных поводах, которые для писателя могут послужить стимулом для творчества. Указывалось, что будто Толстой, в особенности последнее время, «ненавидел» Танеева и раздражался им. Все это требует существенных разъяснений. Прежде всего, для всех, знавших самого Танеева, было достаточно ясно, что этот человек, робкий и застенчивый, мешковатый и тучный, с обликом профессора университета (а отнюдь не артиста), деликатный и мягкий, рассеянный и по-детски невинный в житейских делах, убежденный холостяк, боявшийся молодых женщин, принципиальный до смешного, до карикатуры, с почти гипертрофированным чувством чести и совестливости, трезвенник, но любивший сладко и сытно поесть, с умом органически рациональным и суховато-скептическим, – что он менее всего подходил к роли «соблазнителя», хотя бы в союзе с музыкой. Да и музыка Танеева была вовсе не соблазнительная – суховатая, академическая, играть он любил больше всего органные фуги Баха и мало игравшиеся тогда последние сонаты Бетховена и свои сочинения, тоже суховатые и академические. Графиня С. А. была значительно старше Танеева, лет на шестнадцать, она бы годилась ему в матери – во всяком случае, его отношение к ней было как к старшему поколению. Танеев действительно бывал постоянно окружен, и именно пожилыми дамами, которые любили в нем его житейскую беспомощность, его облик взрослого ребенка, который требовал попечения и ухода, за которым надо было смотреть, водить его по улицам (от близорукости и раскосости глаз он часто оступался и падал), кормить его сладкими пирожками и выслушивать от него разные ядовитые остроты, на которые он был великий мастер и любитель. В их число входили главным образом три сестры Масловы и графиня С. А. Толстая. Танеев, как кошка, привязывался не столько к людям, сколько к «домам», причем условием привязанности бывала всегда эта заботливость и тот типично московский стиль жизни, при котором можно было приходить к друзьям в любое время дня и даже ночи.
В этих домах Танеев был своим человеком и эти дома любил – к числу их относился и дом Толстых, он бывал там очень часто, иногда каждый день, гостил у них летом в Ясной Поляне по месяцам, даже возил туда и свою старую нянюшку. В «любимых домах» Танеев любил и ценил весь ансамбль дома, никогда никого не выделял и особенности. Так и у Толстых он всех любил, быть может, меньше всего самого Толстого, которого слегка, по-видимому, боялся – точнее, боялся, как очень деликатный человек, всегда возможных с его стороны вспышек и резкостей.
Графине С. А. безусловно нравился облик Танеева, она отдыхала на нем, на его спокойной и именно не волнующей музыке, ей нравился светлый и ясный ум его и передовые, либеральные взгляды: на «обыкновенности» Танеева она отдыхала от необыкновенности своего гениального мужа. Не думаю, чтобы с ее стороны могли появиться какие-нибудь более нежные чувства, а с его стороны безусловно ничего подобного не могло появиться просто из-за разницы лет и из-за свойств самого темперамента Танеева. Надо знать Танеева, его бесконечно деликатную натуру (даже собакам говорил «вы»), чтобы быть уверенным в том, что он никогда бы не стал бывать в доме запросто и часто, если бы чувствовал какую бы то ни было минимальную «неловкость» своего положения [079]. А между тем Танеев именно особенно часто бывал в доме Толстых в эту эпоху, начиная с годов «Крейцеровой сонаты» и до начала нашего века, даже, можно сказать, до 1906-7 годов. Очевидно, что если даже у Толстого и были поводы неудовольствия по адресу Танеева, то они были скрываемы настолько умело, что чуткий Танеев их не замечал. Что же касается отношения Толстого к Танееву, то, конечно, возможно, что он, импульсивный и стихийный, дико ревнивый даже в старости, мог что-то подумать про музыкальную дружбу Танеева и графини, но без всяких оснований. Я никогда, впрочем, с его стороны не наблюдал никаких эксцессов по адресу Танеева, но охотно допускаю, что поводы для неудовольствия могли быть, хотя и в иной сфере. Толстой мог быть недоволен Танеевым и за его слишком определенную приверженность к «партии жены» (его преемник, Гольденвейзер, в этом отношении повел свою политику прямо в противоположном направлении), и тем, что чувствовал, что по всем своим убеждениям Танеев, эта плоть от плоти и дух от духа русской либерально-дворянской интеллигенции, – не может быть с ним, с Толстым, что он – «враг» в этом смысле.