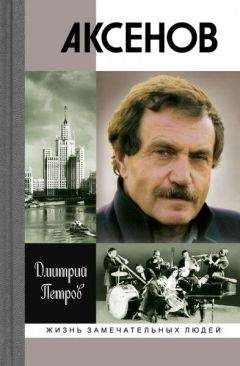Дмитрий Петров - Василий Аксенов. Сентиментальное путешествие
Письмо ударников В.Косарева, А.Кречета, В.Портнова и других сопровождал редакционный комментарий, очень схожий с предупреждением: «Едва ли можно считать нормальным положение, когда некоторые наши писатели, особенно молодые, сосредоточивают внимание на негативном изображении современности, проявляют интерес к описанию, главным образом, темных сторон действительности… искажая общую картину жизни советского общества. <…> Художественная литература… должна способствовать воспитанию нового человека, активного строителя коммунистического общества».
Говорилось и о прямом очернительстве, в котором обвинялись журнал «Новый мир» и нетребовательная к авторам «Юность».
Что же стало поводом к появлению этих текстов? И о каком злокозненном рассказе вели речь «ударники коммунистического труда»?
Незадолго до того в «Юности», плюс в газетах «Советская Эстония» и «Ленинградская правда» вышел рассказ Аксенова «Товарищ Красивый Фуражкин». Его центральный, что называется, характер – таксист по прозванию дядя Митя возит по Крыму пассажиров в красивом «ЗИЛе». Старается разместить побольше попутчиков, заработать «левым» извозом рыночного товара, обернуться побыстрее, вложить средства в домашнее хозяйство и стройку. Словом – деловой человек, бизнесмен. Но это он на английском так называется или на нынешнем русском, а на тогдашнем советском имя ему было одно: деляга-рвач-хапуга, куркуль и хитрован. Вроде как тайный частный предприниматель. И никто с ним ничего поделать не мог, кроме инспектора ГАИ младшего лейтенанта Ермакова – мужа дяди Митиной дочки. Казалось бы, мог гаишник под влиянием тестя пойти по «скользкой дорожке», но для Вани Ермакова долг превыше всего.
А вот автор Митю не клеймит. И «хищником» зовет шутя. И с как бы даже симпатией показывает с особой и интересной стороны: «Он видел под собой Крым… как туристическую схему и видел весь бассейн Понта Евксинского и дальше – взгляду его не было границ.
Сейчас надо мандарины везти в Сухум, а гвозди в Стамбул, а носки в Тбилиси, доски, бочки, трикотаж, галантерею, лавровый лист, пуговицы, запонки, томаты, рыбу, кавуны, цветы, веревки… химикалии в Джанкой, в Балаклаву, в Рим, в Париж, в Москву, в Свердловск…»
Вот он – масштаб. Вот прицел! Дальний. Стратегический. Вот он – делец-купец-молодец. Вот от кого была б и ему, и стране со всеми ее жителями немереная прибыль и польза. А ему – не дают. И чуть что – по рукам, штраф, прокол и протокол. Со стороны положительного героя – беззаветного стража советских дорог «товарища красивого Фуражкина» Вани Ермакова.
Понимаете? Аксенов поет между строк величальную песнь деловому человеку, которого и сама советская власть за полвека не смогла в России окончательно придушить, а ему устами ударников труда выносят порицание за «изображение темных сторон действительности» и «искажение общей картины жизни». Они что там – ослепли в кабинетах, откуда обычно даются команды «мочить»? Да, в образе дяди Мити действительно скрыта крамола, но в другом она, в другом! Неужто там не увидели, что Аксенов им восхищается (еле-еле это скрывая), как человеком, на свой страх и риск бросающим вызов системе?
А может – заметили? Но спустили на тормозах: намекнули, предупредили, показали: видим, всё ви-идим, но вас не трогаем. Осторожней на поворотах. Мы ведь к вам с душой. Не пора ли уже остепениться и перековаться, ухватиться, так сказать, за надежные большевистские корни?
3
Но, похоже, Аксенов намеки услышать не захотел. Как и «Юность». Журнал ответил смешной пародией Марка Розовского, озаглавленной «С кого вы пляшете балеты?». В ней посетившие «Лебединое озеро» птичники-ударники колхоза имени Чайковского, оскорбленные «историйкой безыдейной любви принца Зигфрида к птице из породы лебедей» и тем, что Зигфрид – «единственный, кто противостоит злу, заключенному в образе Злого Гения», требуют включить в балет хороших людей, которых «в жизни больше», не случайно «по крику наших петухов московские часовщики выставляют стрелки и проверяют время».
Видимо, эта публикация переполнила чашу терпения надзирателей за словом, и 26 января 1966 года через журнал «Смена» они изложили «Наши претензии к журналу "Юность". Списывать на молодость нельзя». Но полемика об очернительстве, обещавшая стать новым идеологическим погромом крамольников, так и не достигнув реальной остроты, постепенно сойдет на нет.
В феврале 1966-го отправят в лагеря писателей Андрея Синявского и Юрия Даниэля. «Шестидесятники» попытаются их защитить, напишут в «Литературную газету», западным коллегам. За них вступятся Антокольский, Ахмадулина, Богуславская, Домбровский, Левитанский, Нагибин, Рассадин, Самойлов, Шаламов, Арсений Тарковский, Эренбург и ряд других литераторов. Охранители ответят жестко. С трибуны XXIII съезда КПСС нобелевский лауреат Михаил Шолохов заявит: «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили не опираясь на строго разграниченные статьи уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием… (бурные аплодисменты)… Ох, не ту бы меру наказания получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, еще рассуждают о суровости приговора!»
Аксенов не желал иметь ничего общего ни с такими ораторами, ни с властью, которой они служили. Она же вела с ним непростую игру, частью которой было и письмо в «Известия».
Играли со многими. То «лупили» – запирали в стране, не давали публиковаться, то «ласкали» – приглашали, приручали, шептали заманчивое…
Гладилин вспоминал: «Я очень любил рассказ Аксенова о том, как его принимал министр культуры РСФСР. Огромный кабинет, чаек, "коньячку не желаете?". Товарищ вразумлял молодую смену ласково и доверительно: "Василий Палыч, твою мать, написали бы вы что-нибудь, на фуй, для нас. Пьеску о такой, блин, чистой, о такой, блин, возвышенной, на фуй, любви… У нас тут, блин, не молочные реки и не кисельные, твою мать, берега, но договорчик мигом, на фуй, подпишем. И пойдет, блин, твоя пьеска гулять по России, к этой самой матери».
Все нормативные слова Аксенов запомнил. Остальное запомнить было невозможно. Новым русским надо бы поучиться у старой партийной гвардии…»
Аксенов и сам, конечно, не забыл ни эту, ни подобные ей встречи и свел их в «Ожоге» в одну – аудиенцию писателя Пантелея у Верховного Жреца.
«Пантелей входит в кабинет. Жрец в исторической задумчивости медленно вращается на фортепьянной табуретке. На Пантелея – ноль внимания. Проплывают в окне храмы старой Москвы, башенки музея, шпиль высотного здания… Все надо перестроить, все, все… и перестроим с помощью теории все к ебеней маме…