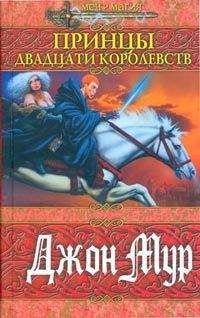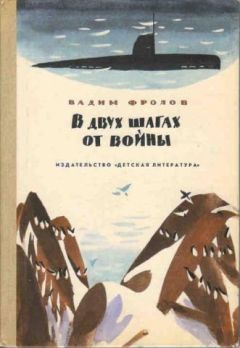Ходасевич Фелицианович - Белый коридор. Воспоминания.
Конечно, во всем этом было много ненужного озорства. Но как холодностью, сухостью прикрывал он доброе, отзывчивое дружеское сердце, так под вызывающей крепостнической позой прятал огромнейшую, благоговейную, порою мучительную любовь к России. Никогда не забуду, как встретились мы однажды в «Летучей мыши» на репетиции. Кажется, было это осенью 1916 года. Вдребезги больной, едва передвигающий ноги, обутые в валенки (башмаков уже не мог носить), поминутно оступающийся, падающий, Садовской увел меня в едва освещенный угол пустой столовой, сел за длинный, дубовый, ничем не покрытый стол — и под звуки какой-то «Катеньки», доносящейся из зрительного зала, — заговорил. С болью, с отчаянием говорил о войне, со злобной ненавистью — о Николае II. И заплакал, а плачущий Садовской — не легкое и не частое зрелище. Потом утер слезы, поглядел на меня и сказал с улыбкой:
— Это все вы Россию сгубили, проклятые либералы. Ну, да уж Бог с вами.
В последний раз я видел его летом 1917 года, в лечебнице Майкова. Он приезжал из Нижнего лечить ногу, сломанную при падении. Я ходил к нему с Гершензоном, которого теперь тоже нет уже. Совершенно лысый, с большой бородой, неожиданно темной (Садовской был белокур), он сидел на кровати, рассказывал, что изучает отцов церкви, а также много переводит с польского и английского. Очень бодрился, рассказывал о кружке молодежи, который в Нижнем собирается возле его постели— слушать лекции о русской поэзии. Но чувствовалось, что это свидание — последнее. Так и было. Я больше его не видел. Он вскоре уехал в Нижний, слег и уже не встал до кончины. Писал редко, едва выводя карандашные каракули, а то и вовсе диктуя. В конце 1918 года произошла между нами размолвка. Я послал ему приглашение участвовать в журнале «Москва», одном из последних частных периодических изданий. Садовской ответил отказом, сообщая, что дал зарок не печатать ни строчки, пока не сгинут большевики. На мои возражения он прислал новое письмо, в котором называл меня большевиком и заявлял, что прекращает всякие отношения со мною и с Гершензоном. Писал, что ему нет дела до Брюсовского большевизма: на то Брюсов — демон; нет дела до Белого: на то Белый — ангел, а вот, как не стыдно нам с Гершензоном, людям?
Обвинение было несправедливо и безоглядно. Мы решили смолчать и дать Садовскому опомниться. Через полгода он сам написал нам обоим — и дружба восстановилась. Летом 1920 года я хлопотал о некоторых делах его. Потом, по его поручению, послал ему шоколаду, но уж ответа не получил. В трудностях того времени было не до писем. Потом я уехал за границу. Думаю, что последние годы его жизни были ужасны. Если так страдали здоровые, то как должен был страдать он, в голоде, в холоде, разбитый параличем, видящий гибель и оплевание всего, что было для него свято: России, литературы. За эти страдания простятся ему все грехи, ежели они были. Те, кто знал его хорошо и близко, навсегда сберегут о нем память самую дружескую, самую любовную.
1925 г.
София Парнок
В маленьком поэтическом альманахе, которого уже не помню теперь названия и который вышел в Петербурге летом 1906, а может быть, 1905 года, среди расхожих, обыкновенных стихов символической поры, отмеченных расплывчатостью мысли и неточностью словаря (я и сам писал тогда именно такие стихи) — вдруг внимание мое остановило небольшое стихотворение, стоящее как-то особняком. В нем отчетливость мысли сочеталась с такой же отчетливой формой, слегка надломленной и парадоксальной, но как нельзя более выразительной. Между бледными подражаниями Бальмонту, Брюсову, Сологубу и недавно появившемуся Блоку, пьеска выделялась своеобразием. Теперь я ее забыл, но тогда она мне запомнилась так же, как имя автора: С. Парнок. После того я довольно долго нигде не встречал этой подписи. У приезжавших в Москву петербуржцев спрашивал, знают ли они такого поэта — никто не знал. Только шесть или семь лет спустя знакомое имя вновь появилось. Поэт оказался поэтессой. Стихи Софии Парнок стали печататься в новом толстом журнале «Северные Записки», издававшемся в Петербурге под редакцией С. И. Чацкиной. В «Северных Записках» я и сам немного сотрудничал. В его критическом отделе был помещен ряд статей, подписанных Андреем Поляниным. Они принадлежали той же Софии Яковлевне Парнок. В эпоху войны перебралась она жить в Москву, мы с ней познакомились, а вскоре и подружились.
Ею было издано несколько книг стихов, неизвестных широкой публике, — тем хуже для публики. В ее поэзии, впрочем, не было ничего такого, что могло бы поразить или хотя бы занять рядового читателя. Однако ж, любители поэзии умели найти в ее стихах то «необщее выражение», которым стихи только и держатся. Не представляя собой поэтической индивидуальности слишком резкой, бросающейся в глаза, Парнок в то же время была далека от какой бы то ни было подражательности. Ее стихи, всегда умные, всегда точные, с некоторою склонностью к неожиданным рифмам, имели как бы особый свой «почерк» и отличались той мужественной четкостью, которой так часто недостает именно поэтессам. К несчастью, говоря об ее стихах, я вынужден ограничиться этими общими замечаниями, сделанными по памяти, по тому впечатлению, которое у меня сохранилось. Не могу быть более точным, потому что не могу перечесть их: у меня под рукой нет ни строчки.
Среднего, скорее даже небольшого роста, с белокурыми волосами, зачесанными на косой пробор и на затылке связанными простым узлом; с бледным лицом, которое, казалось, никогда не было молодо, София Яковлевна не была хороша собой. Но было что-то обаятельное и необыкновенно благородное в ее серых, выпуклых глазах, смотрящих пристально, в ее тяжеловатом, «лермонтовском» взгляде, в повороте головы, слегка надменном, в незвучном, но мягком, довольно низком голосе. Ее суждения были независимы, разговор прям. Меня с нею связывали несколько лет безоблачной дружбы, которой я вправе гордиться и которую вспоминаю с глубокой сердечной благодарностью.
Я видел ее в последний раз летом 1922 года, за несколько дней до отъезда из России. Заходил к ней проститься накануне самого отъезда — и не застал дома. Несколько времени мы переписывались — пока можно было со мной переписываться. Она жаловалась на тяжелую жизнь, на изнурительную и одуряющую советскую службу. 26 августа она умерла. С великою горестью перечитываю ее письма, написанные на обрывках желтой, шероховатой советской бумаги, и перекладываю их в конверт, где хранятся у меня письма умерших. Несколько лет тому назад в нем было всего несколько листков. Теперь он уже довольно толст и увесист. Тяжестью он лежит на душе и памяти.
1933 г.