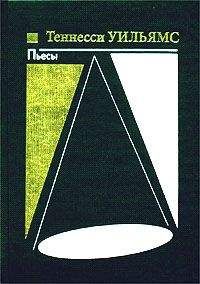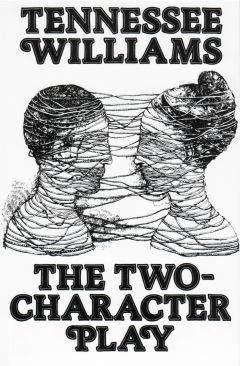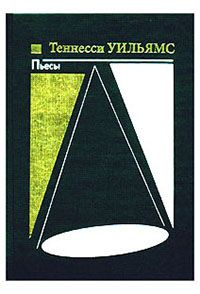Теннесси Уильямс - Мемуары
Потом мы услышали, что актриса, имя которой мне было совершенно неизвестно — Джессика Тенди — произвела сенсацию на Западном побережье в моей короткой пьесе «Портрет Мадонны». Было решено, что Айрин, Одри, Санто и я «Супер-Чифом»[39] поедем на Запад и посетим ее спектакль.
Мне мгновенно стало ясно, что Джессика — это Бланш.
Две главные роли были пристроены, я сказал Казану, что остальных исполнителей он может найти сам, по своему вкусу, и вернулся на «Ранчо Санто». Стало уже теплее, можно было плавать, в те дни Кейп-Код был очень приятным летним курортом. Поведение Санто осталось, мягко выражаясь, таким же сумасбродным. Марго и Джоанна все еще жили там, и нам втроем стоило немалых усилий удерживать его хотя бы под каким-то контролем. Кое-как я привык к его неистовому темпераменту, работая по утрам тем летом за пишущей машинкой, а дни проводя на песчаных дюнах у Провинстауна.
Стали появляться интересные люди. Среди них — поэт Джон Латуш, написавший «Хижину в небе» и другие песни; его сопровождал юноша, который стал потом моим самым близким другом и жил со мной дольше, чем кто бы то ни было — молодой человек сицилийского происхождения — Фрэнк Мерло.
Фрэнк был на два сантиметра ниже меня, но будто изваян Праксителем. У него были громадные карие глаза и немного лошадиное лицо, отчего через несколько лет к нему прилипла кличка «Лошадка».
У Латуша еще не закончился некий нервный кризис, в котором была замешана, я думаю, его мать, и он внезапно уехал, оставив Фрэнка в Провинстауне.
Наша первая встреча была довольно театральной.
Мы с Санто пошли в ночное заведение в Провинстауне, известное как «Атлантический дом». Публику там развлекала Стелла Брукс, одна из первых великих джазовых певиц, и я обожал ее, что не нравилось Санто. Во время ее выступления он выкрикнул какие-то оскорбления и выскочил из зала. Номер Стеллы закончился, я остался один и вышел на деревянное крыльцо «Атлантического дома». Через некоторое время туда вышел и Фрэнк Мерло, тоже один, он курил, облокотившись на перила. На нем были джинсы, и я смотрел и смотрел на него. Мой непрерывный и яростный испытующий взгляд, наверное, прожег ему спину, потому что он повернулся ко мне и усмехнулся.
Не помню, что я сказал, но уже через несколько минут мы были в моем «Понтиаке» с открытым верхом и ехали в дюны.
Я не хочу перегружать эту «вещицу» гомоэротикой, но позвольте сказать, что этот час в дюнах был фантастическим, хотя я никогда не считал песок идеальным — или просто подходящим — местом для поклонения маленькому божку. Однако божку была отслужена такая благоговейная служба, что он, наверное, все еще улыбается…
Отвезя Фрэнка к дому, где он жил, я припарковал машину и стал мечтательно бродить по городу. Пока я плыл в густом ночном тумане Провинстауна, Санто взял мою машину. Сначала он поехал к дому Стеллы Брукс — подумал, что это она утащила меня в свою нору. Бедняжка Стелла — для этого она знала меня слишком хорошо. Санто поставил ей синяк под глазом и разгромил ее жилище.
Вернувшись к «Атлантическому дому» и обнаружив, что мой «Понтиак» исчез, я пошел домой пешком. Уставший, я взбирался на крутой холм по дороге к Норт-труро, когда два луча света от мчащегося на дикой скорости автомобиля появились на вершине холма. Какой-то защитный инстинкт подсказал мне, что за рулем — Санто. Машина, казалось, мчалась прямо на меня, поэтому я отбежал с дороги. Санто направил машину в заросли болотной травы, как будто намеревался задавить меня. Я не был параноиком и не стал дожидаться этой возможности, а стремглав помчался через болото. За мной — уже пешком — мчался Санто, на чем свет стоит ругаясь по-английски и по-испански.
Я достиг океана, и Санто не догнал меня, благо стояла безлунная ночь. Увидев деревянный причал, я взбежал на него и повис на его кромке — над самой поверхностью воды. Я висел там, пока Санто, не обладавший нюхом ищейки, не потерял мой след и не ушел, ругаясь, в другую сторону. Мокрым, замерзшим я вскарабкался обратно на пирс, снова пересек соленое болото — даже ни разу не вспомнив поэму моего непрямого предка[40] «Болота Глинн».
В конце концов я вернулся к «Атлантическому дому». Там наверху над баром сдавались комнаты, я снял одну из них, забаррикадировав дверь всей мебелью, какая была, кроме кровати.
Только после этого я уснул.
Проснувшись, я позвонил на «Ранчо» Марго и Джоанне. Они сказали, что тоже пережили ночь ужаса. Все согласились: Санто необходимо убедить покинуть нас.
Марго сыграла роль парламентера.
Джоанна проводила его до автобуса.
Я вернулся в наш домик, на передней стороне которого все еще висела табличка «Ранчо Санто». Это оказалось пророческим!
И я, и обе леди из Техаса по дороге на ужин радовались, как дети, когда на нас внезапно налетел Санто. Оказалось, что он автостопом вернулся в Провинстаун.
Он был в самом дружеском настроении — как будто ничего в нашей жизни не шло наперекосяк.
С какой готовностью принимается неизбежное — вас это не удивляет?
Мы поужинали омарами и зажили обычной жизнью на «Ранчо», пока не пришло время мне возвращаться в Нью-Йорк, где в начале осени начались репетиции «Трамвая».
Заставить Санто уехать стоило немалых трудов. Это феноменальное достижение удалось, кажется, Айрин Селзник Она легко находит выход из любой ситуации и смогла справиться даже с таким трудным делом, как освобождение меня от Санто. Я остался в Нью-Йорке один, очень этим довольный, снял крохотную квартирку с кухонькой в районе Челси, на первом этаже старого кирпичного дома.
Репетиции шли своим чередом на Амстердам-руф, я считал, что пьеса провальная, снова стал думать о себе, как об умирающем художнике — и вообще не художнике.
Казан, хотя и был человеком, природа которого полностью противоположна моей, прекрасно меня понимал. Он один из тех немногих режиссеров, которые хотят, чтобы драматург присутствовал на всех репетициях, даже на тех, когда он только намечал мизансцены. Время от времени Казан вызывал меня на сцену — спросить мое мнение о том, как следует играть тот или иной кусочек. Подозреваю, это он делал только чтобы польстить мне, так как не представлял, что такое неуверенность в той работе, которую начинал.
Помню, как он спросил меня по поводу старой мексиканки, которая ходит по улицам, продавая блестящие жестяные цветы на могилы, выкрикивая и распевая: «Flores para los muertes, corones para los muertos».[41]
Я поднялся на репетиционную сцену и пошел к жилищу Ковальского, неся жестяные цветы… Джессика открыла двери и, увидев меня, закричала: