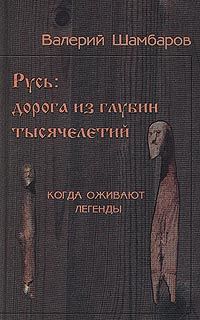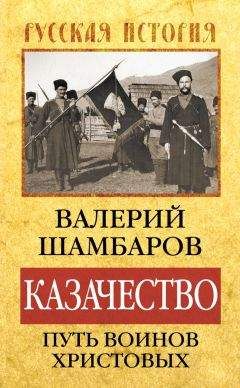Елена Булгакова - Воспоминания о Михаиле Булгакове
Иногда, ближе к вечеру, он зовет меня прогуляться, чаще всего на Патриаршии пруды. Здесь мы садимся на скамейку подле турникета и смотрим, как дробится закат в верхних окнах домов. За низкой чугунной изгородью нервно дребезжат огибающие сквер трамваи…
Закат, Патриаршии пруды, скамейка, — я и не подозреваю, что все это станет завязкой его романа, что именно здесь, у турникета, прольет подсолнечное масло Аннушка и отлетит отрезанная трамваем голова Берлиоза. Мне предстоит узнать об этом только через сорок лет. А он, Булгаков? Знает ли он? Может быть, уже предчувствует?
В эти минуты он особенно молчалив. Чувствуется, что в голове у него идет какая-то таинственная работа, ни на мгновение, впрочем, не притупляющая его наблюдательности. Даже когда глаза его принимают очень уж отрешенное выражение, он может жестом обратить мое внимание на занятного прохожего, улыбнуться забавной уличной сценке. Похоже, сознание его все время делает два дела: запасает впрок новые впечатления и в то же время преобразует и компонует старые, отстоявшиеся.
* * *В годы нашего знакомства[65] он уже автор «Белой гвардии», «Дьяволиады», «Роковых яиц»… Но где и когда все это пишется? Ночью? На бульваре? В редакции «Гудка»? Не знаю. Я, во всяком случае, пишущим его никогда не застаю. У него и письменного стола-то нет…
Может быть, я не прав, но мне кажется, он из тех, кто долго и кропотливо возделывает свои замыслы в воображении, а пишет легко. Счастливый дар! Что-то вроде природной постановки голоса.
Однажды он поманил меня пальцем в прихожую: «Хотите послушать любопытный телефонный разговорчик?»
Он звонит в издательство «Недра»: просит выдать ему (в самый что ни на есть последний раз!) аванс в счет повести «Роковые яйца». Согласия на это, судя по всему, не следует. «Но послушайте, — убеждает он, — повесть закончена. Ее остается только перепечатать… Не верите? Хорошо! Сейчас я вам прочитаю конец».
Он замолкает ненадолго («пошел за рукописью»), потом начинает импровизировать так свободно, такими плавными, мастерски завершенными периодами, будто он и вправду читает тщательно отделанную рукопись. Не поверить ему может разве что Собакевич!
Через минуту он уже мчится за деньгами. Перед тем как исчезнуть за дверью, высоко поднимает указательный палец, подмигивает: «Будьте благонадежны!»
Между прочим, сымпровизированный Булгаковым конец сильно отличался от напечатанного. В «телефонном» варианте повесть заканчивалась грандиозной картиной эвакуации Москвы, к которой подступают полчища гигантских удавов. В напечатанной редакции удавы, не дойдя до столицы, погибают от внезапных морозов.
* * *
Вскоре после своей телефонной мистификации он повез меня на авторское чтение «Роковых яиц» в Большой Гнездниковский переулок, в дом Нирензее. В те годы это было самое высокое в Москве здание, с крыши которого открывалась панорама города. На Булгакова эта десятиэтажная махина произвела, вероятно, сильное впечатление. Не случайно местом развязки повести «Дьяволиада» он избрал плоскую кровлю дома Нирензее, где тогда находился ресторан.
Чтение происходило, кажется, в квартире писателя Огнева. Здесь — чуть ли не вся литературная Москва. Его слушают стоя, сидя, в коридоре, в соседних комнатах. После читки начинается обсуждение — долгое и преимущественно хвалебное. Из выступавших запомнил только Шкловского (не потому ли, что ничего из его речи не понял?).
В другой раз где-то в переулке на Малой Никитской Булгаков читает главы из «Белой гвардии». Успех громадный.
Читает он, надо сказать, мастерски. Именно читает, а не играет, при том ведь, что прирожденный актер. Богатство интонаций, точный, скупой жест, тонкая ироничность — все это, пожалуй, сближает его с Закушняком.
Домой возвращаемся на извозчике: он, я и незнакомая мне дама. Поздняя зимняя ночь. Сани нудно тащатся по спящим переулкам. Ноги мои совсем оледенели под жидкой извозчичьей полостью. У дома Пигит я выхожу. Булгаков едет провожать даму. Напоследок говорит мне вполголоса: «Дома скажите, что я там остался…»
* * *Он был не один в те годы и все-таки словно один. Его жена, Татьяна Николаевна Лаппа — высокая, худая, в темных скучных платьях, — держится так неприметно, так ненавязчиво, будто чувствует себя посторонней в его жизни. Не спутница, а попутчица, соседка по комнате (не она ли «добрая соседка, жена мастера», которая отпаивает больного Максудова бульоном в «Театральном романе»?). У нас Булгаков бывает всегда без нее. Да, по-видимому, не только у нас.
Когда и где они познакомились? Почему соединились? Не знаю. Со мной он об этом не говорит. Он вообще не из тех, кто легко раскрывает другим интимные стороны своей жизни. Только однажды, вскользь, скорее себе самому, чем мне, роняет раздумчиво: «Если на одиннадцатом году совместной жизни не расходятся, так потом остаются вместе надолго…»[66]
Судя по всему, это кризис. В 1925 году они расстаются. На том кончается его пребывание в квартире 34. Через некоторое время Татьяна Николаевна переезжает в подвальный этаж того же подъезда, в квартиру 26. Он еще, говорят, навещает ее иногда, но вскоре она выходит замуж.
* * *Кто у него бывал? На моей памяти, чаще всех — Валентин Катаев. Иногда — Олеша. Однажды — Паустовский.
Об Олеше Катаев и Булгаков необычайно высокого мнения. «Запомните, — говорит Валентин Петрович, — самый талантливый сейчас в России писатель — Олеша. Он еще себя покажет!» И тут же весьма непоследовательно переводит разговор на Бунина. Бунин для Катаева то же, что Париж для Эренбурга.
С приходом Катаева почти всегда появляется на столе любимое обоими шампанское. Я тоже получаю бокал и, скромно помалкивая, прислушиваюсь к беседе молодых титанов. Титаны демократичны, но не отказывают себе в удовольствии наставлять робкого дилетанта на путь истинный.
Булгаков делает это неизменно деликатно и сдержанно (фамильярность вообще не в его природе — не терпит ее по отношению к себе и не проявляет по отношению к другим. Неспроста максудовские «мучения от фамильярности»). Острый и саркастичный, он никогда не разрешает себе иронизировать по поводу моих писаний: предпочитает тон серьезный и взыскательный.
«Что вы хотели этим сказать? — спрашивает он, прочитав очередной мой опус. — Если ничего, к чему же было писать? Без мысли нет литературы, будьте благонадежны!»
Присутствие интересной мысли извиняет в его глазах многие промахи. «Написано, конечно, неважно, даже попросту плохо, — говорит он в таких случаях, — но тут есть мысль. Работайте и… не торопитесь!»