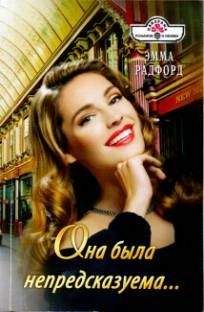Майк О'Махоуни - Сергей Эйзенштейн
При польском дворе, фильм «Иван Грозный», вторая серия, 1946
Тени – еще один способ акцента на двойственности, который использует Эйзенштейн. Во время сцены коронации Иван объявляет, что один будет правителем объединенной Руси, и его притязание зрительно подчеркивает крупный план, на котором на его щеку падает тень от двуглавого орла на скипетре. Несмотря на утверждение его господства в этих кадрах, среди толпы раздаются голоса сомневающихся в законности власти Ивана. Более того, как отметил Юрий Цивьян, тени в сцене в тронном зале крайне важны для понимания двойственной натуры Ивана. Сам режиссер называл тени на стенах «наружным эго»[239]. Таким образом, тень астрономической сферы над головой Ивана символизирует «лабиринт его космических дум», а несоразмерность его тени и тени гонца «отражает настоящую разницу между величинами двух персонажей, которые в реальности соотносились бы совсем иначе»[240].
Кроме того, тени служат инструментом создания мрачного, зловещего настроения сцен, снятых в помещении. Контрастное освещение заставляет зрителя вглядываться в темные потайные закоулки и вздрагивать от неожиданных появлений. Один из самых ярких примеров подобных тревожных появлений – тень, спускающаяся по лестнице в тот самый момент, когда Евфросинья говорит Курбскому, что он обречен. Сначала кажется, будто это тень Ивана, но оказывается, что это Скуратов – снова обыграна двойственность внешности. В этом месте Эйзенштейн цитирует «Носферату» (1922), классический фильм ужасов режиссера Фридриха Мурнау, и не только визуально. Можно предположить, что Иван и Скуратов – это один и тот же двуликий человек, как существо из фильма Мурнау, и такое прочтение добавляет богатства этой кинематографической цитате. В «Иване Грозном» есть и другие отсылки к немецкому киноэкспрессионизму. Так, эпизод, где слабоумный Владимир ловит муху, напрямую заимствован из сцены с больным в сумасшедшем доме в фильме «Кабинет доктора Калигари» (1919) Роберта Вине.
С эстетикой экспрессионистов «Ивана Грозного» связывают не только отдельно взятые цитаты. В частности, резкий свет и острые углы съемки создают давящее ощущение замкнутого, сжатого пространства, близкого скорее подземелью или богадельне, чем царскому дворцу[241]. Решение Эйзенштейна задействовать Москвина вместо Тиссэ для павильонных съемок свидетельствует о его поиске новой визуальной эстетики. Заостренные и вытянутые формы декоративных элементов развивают тему заимствования эстетики у готики и экспрессионизма начала XX века, и даже сами персонажи с их театральными костюмами и жестами решительно отличают «Ивана Грозного» от других советских фильмов того периода.
Тени, фильм «Иван Грозный», первая серия
Еще один элемент оригинальности и сходства с европейским экспрессионизмом фильму добавил цвет. В конце 1945 года Эйзенштейну удалось добыть небольшое количество цветной пленки – военного трофея с завода «Агфа» в Германии. Давно заинтересованный в возможностях цветного кино, Эйзенштейн использовал ее при съемке одного из последних эпизодов второй части «Ивана Грозного» – танцев в сцене пира. Поставив ранее цель сделать звук неотъемлемой частью киномонтажа, теперь Эйзенштейн стремился повторить то же с цветом. Поэтому вместо того чтобы делать акцент на естественных цветах, он создал из цвета, изображения и звука синтез повествования, настроения и зрительных эффектов. В сцене пира цвет призван подчеркнуть чувства карнавального исступления и опасности, а также решительность, с которой Иван встречает известие о заговоре бояр и подстраивает убийство Владимира. Сцена начинается с настоящего взрыва цвета и движения под аккомпанемент пронзительной музыки Прокофьева. Золотой, красный, голубой и черный смешиваются воедино, а затем по очереди сменяют друг друга. Как потом указывал Эйзенштейн, золото обозначает «праздничную, царственную тему» и ассоциируется с одеяниями Ивана и Владимира, а «красный цвет дает зловещую тему и играет роль крови»[242].
Символическую роль цвета Эйзенштейн также использует в эпизоде, где Иван порицает Басманова и напоминает ему, что по крови он не родня царской семье. В тот момент, когда Басманов на это вкрадчиво отвечает, что они с царем навек связаны другой кровью, пролитой ими вместе, на их лица падает загадочная кроваво-красная тень, которая напоминает об их прошлых деяниях и предсказывает казнь Басманова в намеченной третьей части. По мере того как осуществляется замысел убийства Владимира, тон изображения сменяется голубым, а затем черным – в предвестие последующих событий. Осознание нависшего над Владимиром рока так же отражается в цвете, когда на его лицо, ярко освещенное на темно-синем фоне, падает тень, а затем – пятно призрачно-голубого света, придавая ему обескровленный вид. Эйзенштейн писал позже, что цвет должен иметь «свое эмоциональное чтение, связанное с каким-то определенным представлением»[243].
Дэвид Бордвелл предположил, что использование цвета в сцене пира во второй части «Ивана Грозного» было в своем роде «теоретическим экспериментом», который в будущем получил бы развитие, если бы не обстоятельства[244]. В конце 1946 года Эйзенштейну предложили снять полнометражный цветной фильм в честь 800-летия основания Москвы. Картина должна была состоять из семи эпизодов, у каждой – свой цвет радуги. К сожалению, этот проект не увидел свет. В течение 1947 года Эйзенштейн продолжал работать над своими литературными трудами, в том числе мемуарами и историей советского кинематографа. Ни то, ни другое он закончить не успел.
В июне Эйзенштейна назначили руководителем сектора кино Института истории искусств при Академии наук[245]. Идеи об использовании цвета в кино не покидали его, и в тот период он написал еще несколько эссе на эту тему. В начале февраля 1948 года, спустя всего пару недель после своего пятидесятилетия, когда он за своим столом писал письмо Кулешову о своих очередных теориях о цвете, у режиссера случился второй обширный инфаркт. На следующее утро тело Эйзенштейна обнаружили на полу его квартиры.
Эпилог
Карьера Эйзенштейна знала много взлетов и падений. В 1920-х годах его нарекли величайшим режиссером эпохи и раскритиковали – по крайней мере, в Советском Союзе – после выхода «Октября». В значительной мере он оставался в немилости все следующее десятилетие до выхода «Александра Невского», когда ему удалось отвоевать свое место в профессиональных кругах и среди культурной элиты СССР. Следующие восемь лет его восхваляли как светило советской кинематографии, но звезда его снова потускнела после критики и запрета второй части «Ивана Грозного». Череда вершин и провалов продолжилась и после смерти Эйзенштейна. В последние годы правления Сталина установилось отношение к Эйзенштейну как к режиссеру, не реализовавшему свой потенциал и испорченному буржуазной склонностью к индивидуализму и формализму. После развенчания культа личности Сталина в 1956 году во время хрущевской оттепели Эйзенштейна «реабилитировали», а его фильмы и теоретические труды приобрели статус канонических.