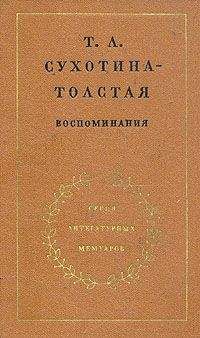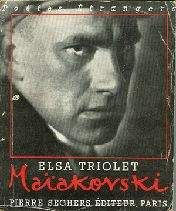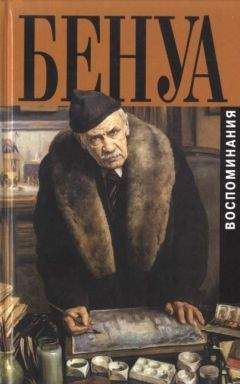Сергей Лифарь - С Дягилевым
Из Лондона Сергей Павлович из-за своей болезни уехал в Париж, для того чтобы посоветоваться с доктором Далимье. Какой-то особенно волнующий характер носило прощание Сергея Павловича с труппой. Дягилев долго и нежно прощался со всеми старыми артистами, особенно нежно с Кремневым, и с верным Василием; с Григорьевым у него произошла неприятность, потому что Дягилев отставил его жену — Чернышеву (Дягилев постоянно упрекал Чернышеву в том, что она предпочитает быть последней среди первых и не хочет быть первой среди вторых танцовщиц). Уходила Чернышева, уходил Баланчин, вообще предчувствовалась реформа труппы, какая уже произошла один раз, когда Сергей Павлович уволил сразу около десяти артистов. Чувствовалось, что и теперь что-то готовилось; в труппе было тревожное настроение и много говорилось о том, что у Дягилева истрепались нервы и что к нему трудно с чем бы то ни было приступиться.
27 июля мы одни, без Дягилева, точно уже осиротевшие, уезжали через Остенде (где дали два спектакля) в Виши.
Я с Сергеем Павловичем простился до Венеции, сговорившись приехать в Венецию в один день с ним. В Виши мы дали четыре спектакля: 30 июля, 1, 3 и 4 августа; 4 августа 1929 года шли «Чимарозиана», «Le Tricorne» [Треуголка – фр. – М. де Фальи] и «Волшебная лавка»,— это был последний спектакль в двадцатилетней истории дягилевского Русского балета, после выступления моего и Войцеховского навсегда опустился дягилевский занавес (Долин уехал раньше в отпуск и не танцевал в этот знаменательный вечер).
Все разъезжались, рассыпались: Кохно, как всегда, уезжал в Тулон, Валечка Нувель со Стравинским в Канталь, Павел Георгиевич оставался в Париже.
Сергей Павлович дважды был у Далимье (25 и 27 июля) и после второго визита написал мне ласковое письмо:
«Родненький мой. Поздравляю с окончанием Лондона, и таким блестящим. Радуюсь за успех „Блудного сына", а сколько веночков и цветочков!! От кого же было столько?!
Уезжаю сегодня в 2 часа. Здоровье лучше, но рана ещё не зажила. Далимье ахнул, когда увидел, и говорит, что я счастливо отделался! Вчера подписал Испанию, т. е. Барселону, думаю, что ты будешь рад. Напиши мне в Munchen, Regina Palace.
Обнимаю и благословляю.
Твой друг С. П. (тут же нарисован кот — так себя называл С. П.).
Будь умненький на шестой годок».
Далимье отговаривал Сергея Павловича от поездки в Германию и находил, что ему необходимо немедленно отправиться на какой-нибудь курорт и заняться серьёзно лечением. Особенно восставал Далимье против Венеции, сырость которой может оказаться пагубной для фурункулов Дягилева.
Сергей Павлович не послушал советов Далимье и поехал в Германию. В Германии, как было условлено, он встретился с Маркевичем и был с ним в Баден-Бадене (28—30 июля), в Мюнхене (30 июля — 5 августа) и в Зальцбурге — на фестивале. В Баден-Бадене на концерте Сергей Павлович встретился с princesse de Polignac, которая нашла его сильно изменившимся. Видели в Баден-Бадене же Сергея Павловича и Набоков с женой. «Хотя он и произвел на нас очень нездоровое впечатление, — писал Н. Д. Набоков,— всё же никак в голову не могла прийти мысль о столь близкой и страшной развязке».
Сергей Павлович много занимается книжным делом, ходит по антикварам и покупает книги, слушает музыку, видается с Хиндемитом и Рихардом Штраусом, который дарит ему с надписью свою «Электру», но больше всего посещает врачей и советуется с ними. Музыка сильно и размягчающе действует на него, особенно Моцарт и Вагнер. Ещё так недавно Сергей Павлович жестоко нападал на Вагнера — 1 августа в Мюнхене он в «Тристане и Изольде» «заливался горючими слезами»; но больше всего трогает и восхищает его в это время Шестая симфония Чайковского.
Юный музыкант не то что разочаровал, а утомил Сергея Павловича своей незрелостью; «cure musicale» [Лечение музыкой – фр.] не удался — слишком усталым чувствовал себя в это время Дягилев, чтобы что бы то ни было начинать. В Германии его больше всего потянуло к покою и к старым привязанностям. 7 августа Сергей Павлович пишет Павлу Георгиевичу большое письмо, в котором даёт ему поручение, что Павел Георгиевич должен привезти ему в Венецию — вплоть до «флакона духов „Mytsouko"
от Guerlain [Герлен] (Champs Elysees) франков в 100— 150»; всё письмо спокойно-делового характера, но в нём находятся следующие строки: «Послал тебе телеграмму, прося приехать в Венецию. Хочу тебя видеть и к тому же продолжаю хворать и вижу тебя рядом со мною отдыхающим в Венеции. Рана зажила, но начались какие-то гадкие ревматизмы, от которых очень страдаю». Кончается письмо опять поручением: «Если Серёжа не взял с собою пакет от Левина (славянского „Апостола"), то непременно привези его с собою.
Жду с нетерпением. Твой Сергей Д.»
Никого не нужно больше Сергею Павловичу, кроме его «Павушки» и меня. И мне, своему «родненькому» (в письмах своих он теперь меня иначе не называет, как «родненьким»), он пишет, посреди страданий, трогательные, ласковые письма и телеграммы и просит своего «Котю» не забывать «Кота»...
Не получая долго от меня писем, Сергей Павлович забрасывал меня телеграммами. Наконец он получил от меня телеграмму в Мюнхен и тотчас же ответил (2 августа) в Виши:
«Родненький. Телеграмма твоя меня несколько успокоила. Однако ни одного письмеца от тебя не получил. Отчего не написал? Забыл, Котя? Получил ли моё письмо из Парижа?
Хиндемиты очень милы, но он ещё ничего не сделал. Однако полон желания и надежд. Кантата его курьезная, но сделана наспех, спектакль, её сопровождающий, плох [Имеется в виду премьера «Поучительной пьесы» Б. Брехта с музыкой П. Хиндемита (28июля 1929 года в Баден-Бадене) – ред.]. Встретил массу знакомых из Парижа, между коими m-me Polignac, m-me Dubost [Дюбо] etc. Здесь питаюсь Моцартом и Вагнером. Оба гениальны и даются здесь превосходно. Сегодня в „Тристане" заливался горючими слезами. Книжные дела тоже в большом ходу. Поблагодари Борю за первое письмо. Оно тревожно, но, судя по телеграммам, всё устроилось.
Не забывай Кота, который тебя обнимает и благословляет». (Вместо подписи нарисован кот с задранным кверху хвостом.)
Это было последнее письмо, которое я получил в своей жизни от Сергея Павловича (после этого письма были только телеграммы).
7 августа Сергей Павлович выехал из Зальцбурга, а я из Парижа — в нашу Венецию.
8 августа я приехал в Венецию. Выхожу из вагона, ищу глазами Сергея Павловича — его нет на вокзале, еду на Лидо в Гранд-Отель, уже взволнованный,— перед отелем его тоже нет, он не встречает, не ждёт меня, как бывало раньше. Подымаю голову и вижу в окне бледного Сергея Павловича, машущего мне рукой. В первую минуту я даже не узнал его — такая страшная перемена произошла в нём за те две с половиной недели, что я не видел его: белый-белый, старый, слабый, неряшливый [Сергей Павлович постоянно оставлял в отелях бельё, галстуки, платки; в это путешествие по Германии он растерял всё бельё и у него не было даже самых необходимых вещей].