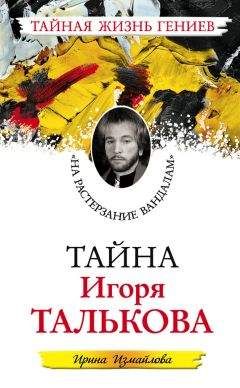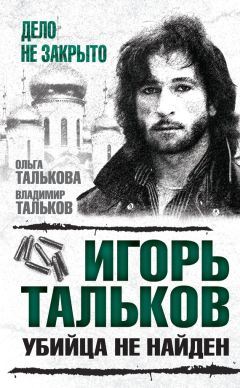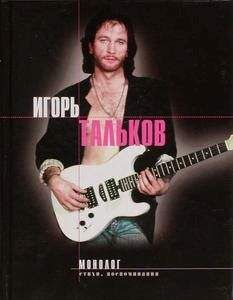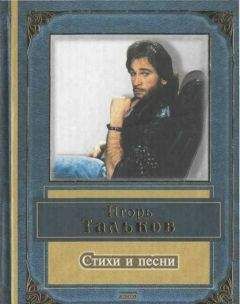Феликс Медведев - О Сталине без истерик
«Я считаю, что наше отношение к Сталину в прошлые годы, в том числе в годы войны, наше преклонение перед ним в годы войны, – это преклонение в прошлом не дает нам права не считаться с тем, что мы знаем теперь, не считаться с фактами. Да, мне сейчас приятнее было бы думать, что у меня нет таких, например, стихов, которые начинались словами “Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?” Но эти стихи были написаны в сорок первом году, и я не стыжусь того, что они были тогда написаны, потому что в них выражено то, что я чувствовал и думал тогда, в них выражена надежда и вера в Сталина. Я их чувствовал тогда, поэтому и писал.
Но, с другой стороны, тот факт, что я писал тогда такие стихи, не зная того, что я знаю сейчас, не представляя себе в самой малой степени и всего объема злодеяний Сталина по отношению к партии и к армии, и всего объема преступлений, совершенных им в тридцать седьмом – тридцать восьмом годах, и всего объема его ответственности за начало войны, которое могло быть не столь неожиданным, если бы он не был столь убежден в своей непогрешимости, – все это, что мы теперь знаем, обязывает нас переоценить свои прежние взгляды на Сталина, пересмотреть их. Этого требует жизнь, этого требует правда истории».
Из книги К. Симонова «Глазами человека моего поколения», М., 1990Что ж, не у каждого «мастера художественного слова» хватило мужества написать такие слова, многие делали вид, что не говорили, не писали, не подписывали…
Константин Симонов же останется в нашей памяти не этими громоподобными строчками, а вечными «Жди меня…» и «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»
Глава 17. Евгений Евтушенко: «Я страшно завидовал тем моим ровесникам, которым выпадала честь подносить букеты цветов Сталину…»
Как попала ко мне перепечатка опубликованного в 1962 году журналом «Штерн» публицистического произведения Евгения Евтушенко «Автобиография рано созревшего человека», сейчас я точно не помню. По одной отложившейся в памяти версии штудию всемирно известного уже тогда поэта перевел для меня году в 64-м, может быть, в 65-м мой дядя Ласло Партош, знавший несколько языков, в том числе и немецкий. Но возможен и другой вариант. Кто-то из знакомых «одарил» меня уже готовой стостраничной распечаткой, гулявшей в «самиздате».
В ту уже сходящую на нет «оттепельную» пору бесцензурная и не санкционированная властями публикация в буржуазных изданиях была крамолой.
Поведение поэта и его произведение клеймили позором, определяя и то, и другое как политически вредное и даже антисоветское. Хранить у себя дома этот образец «антипартийной» литературы было достаточно рискованно. Я же, «подтравленный» спущенной «сверху» определенной свободой, возможностью говорить, обсуждать, читать, однажды (это было уже году в 1967-м) легкомысленно принес «Автобиографию» на работу во владимирскую газету «Призыв» и положил в свой рабочий стол вместе с имевшимся у меня письмом Александра Солженицына к IV Съезду Союза писателей, в котором писатель выступал за упразднение всякой цензуры над художественными произведениями. Письмо это вызвало бурю возмущения в официальных кругах и распространялось также в «самиздате».
Конечно, я поступил крайне опрометчиво. Как и следовало ожидать, кто-то из коллег сунул «стукаческий» нос в мой письменный стол и, выудив тексты, доложил куда следует. Судьба моя мгновенно изменилась. После бесед с представителем органов мне предложили уволиться и по-хорошему намекнули, чтобы я исчез с «глаз долой». Прекрасно понимая, что совет этот не очень «дружеский», я покинул территорию Владимирщины и Москвы и уехал в далекий Курган.
Сейчас, по прошествии почти полувека, ясно, что скандал, связанный с публикацией на Западе «Автобиографии…», и реакция на изложенное поэтом были явно намеренно инспирированы идеологами из ЦК КПСС. Началась очередная проработочная кампания по завинчиванию гаек и выкручиванию рук – для острастки и самого Евтушенко, и тех «инакомыслящих», кто оппозиционно воспринял погромные встречи Хрущева с творческой интеллигенцией.
Привожу фрагменты из сохранившегося в моем архиве «самиздата» – «крамольной» исповеди поэта, поразившей меня своей открытостью, свежестью и напором.
…Я хотел увидеть Сталина. Я ходил вместе с мамой и отцом на демонстрации и просил отца приподнять меня выше. И когда вознесенный в отцовских руках над толпой я махал красным флажком, то мне казалось, что Сталин тоже видит меня. И я страшно завидовал тем моим ровесникам, которым выпадала честь подносить букеты цветов Сталину и которых он ласково гладил по головам, улыбаясь в свои знаменитые усы своей знаменитой улыбкой.
Объяснять культ личности Сталина лишь насильственным навязыванием по меньшей мере примитивно. Без сомнения, Сталин обладал гипнотическим обаянием. Многие настоящие большевики, арестованные в то время, отказывались верить, что это произошло с его ведома, а иногда даже по его личному указанию. Они писали ему письма. Некоторые из них после пыток выводили своей кровью на стенах тюремных камер «Да здравствует Сталин!»
Понимал ли русский народ то, что на самом деле происходило? Я думаю, что в широких массах – нет. Он кое-что инстинктивно чувствовал, но не хотел верить тому, что подсказывало сердце.
Это было бы слишком страшно. Русский народ предпочитал не анализировать, а работать. С невиданным в истории героическим упорством он воздвигал электростанцию за электростанцией, фабрику за фабрикой, заглушая грохотом тракторов и бульдозеров стоны, доносившиеся из-за колючей проволоки сибирских концлагерей.
Но все-таки совсем не думать в те трудные годы было невозможно…
…Мне стыдно за Сталина, хотя и не только за него. Как можно было не доверять народу, безгранично верящему в коммунизм и распространявшему эту веру на Сталина.
…Писал я лихо, с задором. Мышление мое еще созревало, и я просто наращивал поэтические мускулы. Как гантелями играл я и аллитерациями, рифмами, метафорами. Тарасов, заведующий поэтическим отделом газеты «Советский спорт», где я печатался, был прекрасным тренером в этом смысле. А то, о чем я писал, мне было неважно. Но невинная ребяческая забава грозила незаметно превратиться в саморастление.
Я помню, как однажды Тарасов вызвал меня по телефону в редакцию. В номере шли мои очередные первомайские стихи.
– Женя, главный редактор в панике, – неловко улыбаясь, сказал Тарасов. – Обнаружилось, что в ваших стихах нет ни слова о Сталине. А снимать стихи уже поздно.
– Что же делать? – сказал я.