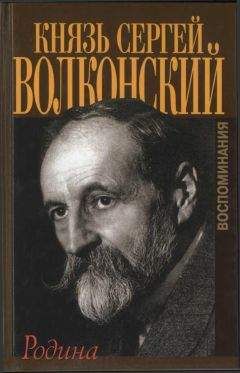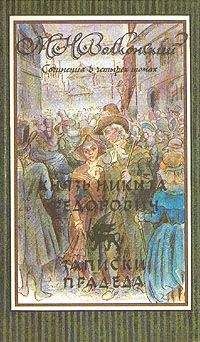Юрий Анненков - Дневник моих встреч
Щедрость и самоотреченность.
В новом варианте «Мистерия-буфф» была снова поставлена Мейерхольдом в 1921 году, но и на этот раз скоро была снята с репертуара.
«Клоп», которого мы могли видеть в Париже в прекрасной постановке Андрея Барсака и в остроумнейших декорациях Андрея Бакста в 1959 году, продержался на московской сцене тоже недолго, так как тенденция этой пьесы — высмеять самодовольство и стяжательность коммуниста, пришедшего к власти и желающего богато обставить свою жизнь, — оказалась в Советском Союзе не вполне своевременной. Пьеса была сразу снята со сцены. Героический Мейерхольд пытался восстановить этот спектакль в 1936 году, но эта попытка была ему запрещена.
Вспоминая сценическую работу над «Клопом», актер Игорь Ильинский, исполнявший главную роль Присыпкина, говорил о Маяковском: «Работа над спектаклем „Клоп“ протекала очень быстро. Спектакль был поставлен в немного более чем месячный срок… Несмотря на спешку и несколько нервную из-за этого обстоятельства обстановку, Маяковский был чрезвычайно спокоен и выдержан. Многое не выходило у актеров. И у меня в их числе. Подчас сердился Мейерхольд, но Маяковский был ангельски терпелив и вел себя как истый джентльмен. Этот, казалось бы, резкий и грубый в своих выступлениях человек, в творческом общении был удивительно мягок и терпелив. Он никогда не шпынял актеров, никогда, как бы они плохо ни играли, не раздражался».
Печальная участь «Клопа» постигла также и «Баню», еще более откровенно противопартийную, чем «Клоп», поставленную в Москве 16 марта 1930 года и почти немедленно запрещенную властями. Главными героями «Бани» снова являлись зазнавшиеся сталинский сановник Победоносиков и его секретарь Оптимистенко.
«Оптимистенки из пьесы „Баня“ Маяковского, которым кажется, что коммунистическое общество — это скакать верхом на палочке и всегда радоваться. Ничего подобного. Такого коммунистического общества мы не строим», — говорил Мейерхольд (стенограмма уже упомянутой здесь речи Мейерхольда 27 мая 1936 года).
Сюжет «Клопа» и «Бани», конечно, не нов. Не писал ли девяносто лет тому назад Федор Достоевский в «Бесах»: «Почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник… почему это?»
Не заглядывая так далеко, вспомним пьесу Максима Горького «Работяга Словотеков», написанную еще в 1920 году и о которой я говорил уже в главе, посвященной М.Горькому. Та же самая тема. Однако с формальной стороны пьеса Маяковского не имеет ничего общего ни с Достоевским, ни с Горьким и осталась типично маяковской.
Тяжкие разочарования, пережитые Маяковским, о которых он говорил со мной в Париже (как и мой друг, гениальный Мейерхольд, во время своих приездов во Францию), заключались в том, что (как они оба довольно поздно поняли) коммунизм, идеи коммунизма, его идеал, это — одна вещь, в то время как коммунистическая партия, очень мощно организованная, перегруженная административными мерами и руководимая людьми, которые пользуются для своих личных благ всеми прерогативами, всеми выгодами «полноты власти» и «свободы действия», это — совсем другая вещь. Маяковский понял, что можно быть «чистокровным» коммунистом, но — одновременно — совершенно разойтись с коммунистической партией и остаться в беспомощном одиночестве.
В январе 1929 года Троцкий был уже изгнан из СССР в Турцию. В том же месяце Рыков, Бухарин и Мдивани (первый торговый представитель СССР во Франции) были также арестованы, и массовый террор коснулся всех родов деятельности в СССР. Я упоминаю здесь об этом для того, чтобы восстановить атмосферу, в которой Маяковскому пришлось создавать свои последние произведения.
22 февраля 1929 года Маяковский снова появляется в отельчике «Истрия», где остается до 29 апреля. Возвратившись в Советский Союз, он публикует три последние поэмы, посвященные Парижу, или — в данном случае — парижанкам.
КРАСАВИЦЫ
В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По гранд
по опере
гуляю грандом.
Смотрю
в антракте —
красавка на красавице.
. . . . . . .
Талии —
кубки.
Ногти —
в глянце.
Крашеные губки.
. . . . . . .
Спины
из газа
цвета лососиньего.
Упадая
с высоты,
пол
метут
шлейфы.
. . . . . . .
Брошки — блещут…
на тебе! —
с платья с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы…
голову.
ПАРИЖАНКА
…Не знаю, право,
молода
или стара она,
до желтизны
отшлифованная
в лощеном хамье.
Служит
она
в уборной ресторана —
маленького ресторана —
Гранд Шомьер.
Выпившим бургундского
может захотеться
для облегчения
пойти пройтись.
Дело мадмуазель
подавать полотенце…
. . . . . . .
пудрой подпудрит,
духами попрыщет,
подаст пипифакс
и лужу подотрет.
Раба чревоугодий
торчит без солнца,
в клозетной шахте
по суткам
клопея…
. . . . . . .
но очень
трудно
в Париже
женщине,
если
женщина
не продается,
а служит.
Спрашивается: что должен был бы сказать Маяковский о госпоже Жолио Кюри, о Симоне де Бовуар, об Эльзе Триоле, о Жаннетте Вермерш, о Даниель Дарье, о балеринах Лиан Дейде, Ивет Шевире, об Оленьке Спесивцевой, о Тамаре Тумановой, или — еще проще — о продавщицах в магазинах, о служащих в различных бюро, о машинистках, о стенографистках, или — о домашних хозяйках. Все же ему известно было, что в Париже женщины не чинят асфальтовые тротуары и не таскают на своих плечах железнодорожные рельсы, как это до сих пор делается в Советском Союзе во имя «равенства». И, кроме того, — подтирать лужи в уборных — занимаются ли этим в СССР исключительно мужчины, одетые в смокинги?
Последнее стихотворение, написанное в Париже, называется «Заграничная штучка». Оно длинное. Я приводить его не буду. В нем говорится о парижских проститутках и об извращенности клиентов. Маяковский удивляется, что нормальные, красивые проститутки не пользуются успехом у парижан. Но вот одной железнодорожной будочнице, «на счастье», поезд отрезал ногу. Поправившись, она вернулась в Париж. «Безножье возбуждает», — говорит Маяковский про парижан: безногая девица — «нарасхват». Заканчивается эта поэма, занимающая три печатные страницы, следующими словами: «Как просто за кордоном сделать карьеру».