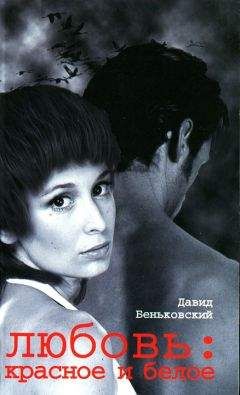Давид Самойлов - Перебирая наши даты
20–е годы: Тихонов, Луговской, Багрицкий, Сельвинский, Кирсанов, Светлов, Заболоцкий, Мартынов. Лефовцы, серапионы, конструктивисты, комсомольские поэты.
Поколение 30–х годов: Корнилов, Васильев, Твардовский, Смеляков, Симонов.
Сплошные взлеты. Ахматова насчитывала их с 10–х до 50–х три или четыре.
Потом наше поколение. Военное, фронтовое.
Потом поколение конца 50 — начала 60–х годов.
Потом…
— Кино прервалось, — как любит говорить один мой друг.
Литературные направления, группы, кружки неминуемо распадаются. Поколение может не осуществиться, но распасться не может. Сергей любил оперировать этой, более прочной, общностью.
…Когда встретились после войны, из шестерых осталось нас трое. Двое погибли, третий от поэзии отошел.
Несколько лет держались вместе. Пытались выработать пригодную для жизни платформу в рамках «откровенного марксизма».
Старались освоить постановления о журналах и о музыке.
Передавали слова Сталина о Зощенко:
— Если он ничего не понимает, то пусть идет к черту со своей обезьяной!
Старались свести концы с концами.
Сергей рассуждал. Победа над фашизмом показала, что решающим фактором исторического движения является Россия. Казалось прежде, что вектор исторических сил идет от античной Греции через Западный Рим и Западную Европу. Время показало, что он проходит через Византию и Россию…
Так или иначе этот взгляд разделяли мы со Слуцким.
На фоне глобальных категорий казалась несущественной литературная судьба Ахматовой. Пастернака и Зощенко.
— Европа стала провинцией, — утверждал Сергей. — Постановления учат нас избавляться от провинциализма.
Ахматова, по взгляду, усвоенному до войны, казалась поэтом давно ушедшей эпохи. Зощенко тоже был куда‑то давно отодвинут. Мы его не перечитывали. Пастернак — другое дело. Учитель. До постановления он был в чести. Это ему не шло. Он казался слишком утонченным, слишком отрешенным от войны, от грубой правды, которая еще не остыла в нас…
…В те трудные годы, когда даже ортодоксальные взгляды могли быть неверно и опасно истолкованы, мы держались друг друга. Литературное восхождение представлялось нам вроде альпинистского похода: один поднимается на очередной уступ и за веревку подлягивает остальных.
На деле, когда в середине 50–х годов началось бурное восхождение Слуцкого, альпинистская бечева оказалась для него помехой. И это естественно. В юности нужны общие платформы и стартовые площадки. Для зрелого писателя взлет — дело индивидуальное. Низко ли, высоко ли он летает, полет этот одиночный. Иногда так возносит или заносит, что и дружеские голоса становятся не слышны. Мы трое все же перекликались, откликались порой друг другу.
Понимается все это потом, когда альпинистская веревка для каждого оказывается путами.
Помню, как сердился Сергей на Слуцкого, не пожелавшего подлягивать нас на взятую им высоту. В раздражении называл это предательством.
Но вскоре сам в одиночку стал брать свои уступы…
Наша дружба с Наровчатовым была прочной отчасти потому, что мы не нарушали нескольких правил. Не наваливали друг на друга жизненные заботы и подробности и не обращались друг к другу с неприятными просьбами.
Когда Сергей стал редактором «Нового мира», я иногда посылал туда стихи, обычно обращаясь к Михаилу Львову.
Так была напечатана поэма «Снегопад».
Я послал «Сон о Ганнибале». Сергей ответил очень смешно. Дескать, поэма хороша, но у нас сейчас сложные отношения с Эфиопией. Как бы эфиопы не обиделись.
Поэма не понравилась. Слишком хорошо знал XVIII век. В этом был ревнив.
Новый, 1940 год я встречал у Виктории Мальт, в квартире на улице Правды.
Поздно пришли Сергей и Михаил Молочко. Возбужденные, разгоряченные. Назавтра они уходили на финскую войну.
Был какой‑то разговор, тяжелый, нервный, резкий. Мишу Молочко мы видели в последний раз.
Потом потянулась студеная, лютая зима. Вся Москва, притихнув в сугробах, томилась в ожидании.
Наконец взят был Выборг и объявили о замирении.
…С Сергеем встретились во дворе ИФЛИ солнечным днем в конце апреля или в начале мая. Кажется, он был в полувоенном.
Поразила его сосредоточенность, отрешенность. Глаза поблекли. Он словно продолжал видеть то, что нам еще видеть не было дано.
Прочитал страшные стихи, написанные в госпитале, — о холерном бараке. Очень сильные стихи. Я больше никогда их не слышал и не видел.
Большая война никогда так мрачно не отражалась в стихах Наровчатова.
Отходил медленно, долго. Что‑то оборвалось, что‑то прервалось тогда в его жизни. Что‑то новое в нем рождалось.
Осенью 1940 года в среде литературной молодежи зазвучало новое имя — Нина Воркунова. Она была невестой Сергея Наровчатова. Он «таскал ее с собой» и «репетировал» в московских литературных домах. Ее стихи нравились Лиле Юрьевне Брик гораздо больше, чем стихи Наровчатова.
Об этой литературной мистификации Сергей писал. Хочу кое‑что добавить. Идея, кажется, первому пришла в голову Слуцкому. Ему же принадлежало первое стихотворение придуманной поэтессы. Помню первую строфу:
Мне снился сон без повода и толка
Про проводы, про правду, про провал.
И долго — долго, очень долго
Продолговато целовал.
Этот обман Сергей раскрыл через многие годы. Первоначально его скрывали и от нашей компании. Когда узнали, стали называть Воркунову Кларой Гасуль.
Она была человеком незаурядным. Острого, сильного, едкого ума. Многих талантов и знаний.
Кажется, Наровчатов никого так не любил до встречи с ней и после расставанья.
Елена Ржевская вспоминает о дне рождения Сергея в Усачевском общежитии. Я помню последний предвоенный день рождения в квартире Нины Воркуновой в Большом Комсомольском переулке.
Дисциплина нашей творческой группы вовсе не требовала, чтобы с ее границами совпадали наши дружеские связи. Я, например, редко встречался с Кульчицким помимо наших сборищ. Бывали размолвки между Павлом и Сергеем. Слуцкий гоголем носился по Москве, инспектируя молодую поэзию.
На том же дне рождения из нашей компании был я один. Пили тогда мало. Читали стихи.
После войны несколько дней рождения Сергей справлял дома, в комнатенке на Сретенском бульваре. Гостей вмещалось мало. Бывал в ту пору Глазков, с которым Сергей тогда часто встречался.
Глазков посвятил Наровчатову несколько веселых стихов и поминал его в своей прозе из цикла рассказов Великого гуманиста.
Стихи о поэте и милиционере, впоследствии переделанные, тогда начинались так: