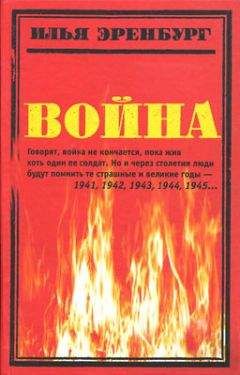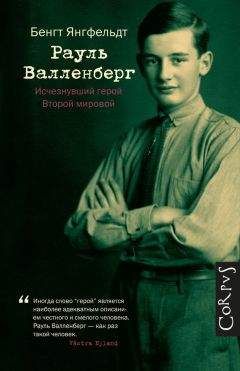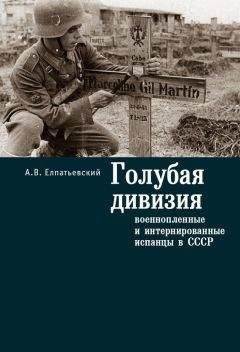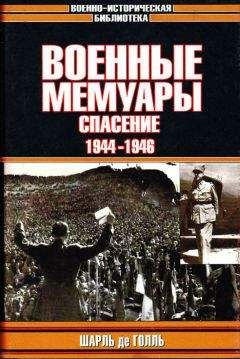Шарль Митчи - Тамбов. Хроника плена. Воспоминания
Рис. К. Клауса
Голод стал для всех настоящей манией. Чтобы успокоиться и хоть чуть-чуть забыть о нём, мы нашли довольно-таки необычное средство. Вечером, когда большинство наших товарищей уже спало на нарах, мы собирались близким кругом, нас было человек пятнадцать, вокруг нашей подруги-печки и рассказывали друг другу самые соблазнительные кулинарные рецепты. Среди нас были повара, которые представляли нам чудесное жаркое, сочные паштеты, тушёное мясо, фрикасе и т. д., тогда как кондитеры состязались в изобретательности, давая нам попробовать самые обольстительные десерты. Выделялся желудочный сок, рот наполнялся слюной — и мы переносились в другой мир и становились чуть менее несчастными.
Но многие из наших товарищей, лежавших на нарах, которые были вынуждены слушать эти разговоры, ужасно злились и начинали на нас орать, не желая слушать про чудеса из мира иллюзий: «Эй вы, банда мерзавцев! От ваших рецептов с ума сойти можно! Мы вам морду набьём, если вы будете продолжать!» Это не мешало нам на следующий день начинать всё сначала с новой силой.
Поведение заключённого на протяжении всего дня отмечено печатью голода: жадность и ненасытность во время еды, распри, ревность и подозрительность во время раздачи пищи.
Часто, когда я слышу, что кто-то рядом говорит: «Я голоден, как волк!» или даже «Я умираю от голода», я не могу удержаться и не возразить: «Нет, вы не голодны, вы просто довольно сильно хотите есть. Голод — это совсем другое!» Я тоже не знал, что такое голод, до января 1944 года и никогда не испытывал его после августа 1945-го. Я всего лишь сохранил некоторую прожорливость за столом после возвращения домой: я ел, я заглатывал пищу, мне всегда было мало. Я останавливался только тогда, когда желудок начинал болеть! Но я всё ещё хотел продолжать! К счастью, это длилось недолго.
Писать об этом трудно. Тому, кто однажды насытился, невозможно даже со всей возможной силой воображения заново пережить это чувство постоянного голода, почувствовать то, что вас мучило, пытало, терзало в течение двадцати месяцев. Это не настоящая боль, но это страдание. Что-то неопределимое, что охватывает весь организм, когда главными становятся рот и глотка, что-то, что не даёт вам покоя, терзает, неотступно преследует и что мало-помалу разрушает в вас любое человеческое чувство. Важно лишь одно — выжить! Единственный девиз — каждый за себя! Дойдя до состояния скелета, вы больше не считаете своего соседа по нарам другом, он становится для вас соперником, почти врагом. За кусок хлеба были готовы на всё! Я не могу удержаться от того, чтобы ещё раз процитировать страсбургского художника Камиля Хиртца: «Все мы стали братьями-врагами!»
Мне кажется уместным привести здесь слова, произнесённые перед камерами телекомпании «France 3 Alsace» двумя русскими женщинами, работавшими в лагере № 188 [62].
Ира Давидовна[63], сотрудник французского сектора в 1943–1945 годах, взволнованно рассказывает:
«Я ходила в бараки осматривать пленных. Я пересчитывала больных и сообщала о них. Когда прибывала очередная группа пленных, мы им помогали устроиться… Их тогда столько умирало. Главное, было холодно и люди были голодные. Это было очень тяжело. Многие пленные прибывали обмороженными. Кроме того, они были больны: понос, тиф и всё такое…»
А вот очень тенденциозные показания другой сотрудницы лагеря, Марии Полушкиной, которую я сразу узнал по телевизору и о которой у меня остались самые плохие воспоминания. Говоря о французских пленных, она настаивает:
«Их хорошо кормили, вот что я вам могу на это ответить. Они все возмущались. Вы, французы, не хочу придираться, но вы хорошо жили. Венгров и немцев посылали на тяжёлые работы. А все французы оставались в лагере. Тех, у кого были вши, посылали на санобработку, и всех каждые десять дней водили в баню…»
В первые месяцы заключения у меня ещё были воспоминания о моих в Эльзасе, была надежда скоро увидеть жену, сына, родных. Это обостряло волю, уверенность в том, что я выживу. Но в Тамбове я быстро дошёл до такой слабости, до такого крайнего истощения, до такого упадка физических и душевных сил, что у меня больше не было ни сил, ни желания, ни мужества даже думать о своих. В голове только одна мысль: поесть, выжить! Только несколько недель спустя, когда я стал заниматься хором, я вновь стал человеком, хотя моё физическое состояние почти не улучшилось.
Я всегда не без зависти восхищался теми немногими из моих товарищей, которые находили в себе силы отложить кусочек своей хлебной порции до вечера или даже до следующего утра. Это было настоящее геройство, о котором, впрочем, им часто приходилось потом сожалеть, поскольку днём или даже ночью недостаточно хорошо спрятанное добро могли украсть те из наших товарищей, которые не могли противостоять соблазну.
Я честно признаюсь, что за все двадцать месяцев плена я смог проявить такую силу воли и храбрость всего два раза. Это и вправду мало!
В первый раз это произошло в бараке № 63, там же, где жили мышки. Однажды утром, когда чувство голода было чуть менее неотступным и я был чуть менее ненасытным, чем обычно, я принял героическое решение отложить четверть дневной порции хлеба до ужина и, чтобы его не украли, держать его в надёжном месте на дне кармана брюк. Вечером, страшно гордый своим подвигом, я решил продолжить опыт и поберечь хлеб на случай, если проснусь ночью. Так получилось, что эту ночь я спал без просыпу до самого утра. Когда я проснулся, меня ожидало жестокое разочарование! Моя рука, нащупывавшая карман, чтобы достать хлеб, провалилась в большую дырку! Никаких следов хлеба! Ночью крыса прогрызла дырку в штанах и съела или утащила этот неожиданный паёк, не оставив ни крошки. Единственными следами преступления было несколько обрывков тряпки. Удручённый и сконфуженный, как ворона из басни, я ругался, хотя было уже поздно[64], что больше со мной такого не повторится!
Второй случай произошёл гораздо позже. Мой большой друг Жак Фритш был командиром взвода в бараке, где stargi, командир роты, торговец углём из Мюлуза, принадлежал к тому типу начальников, которые пользуются своей властью, чтобы отравлять жизнь своим товарищам по заключению. Так как в бараках не было никакой системы освещения, мы были вынуждены искать хоть какие-нибудь способы, чтобы обеспечить раздачу супа, поскольку довольно часто это происходило уже после наступления темноты. Самым простым решением проблемы было настругать из дерева, лучше всего из досок, тонкие лучинки, которые служили нам свечками. Но портить доски считалось преступлением, командование лагеря за это строго наказывало. Однажды вечером один заключённый из взвода Жака был застигнут одним из русских в процессе изготовления лучинок из дощечки, которую он только что нашёл. Позвали командира барака, который сам пригласил Жака, и на этом, принимая во внимание незначительность вины, история бы закончилась простым предупреждением (речь шла о маленькой досочке, не имевшей никакой ценности). Но stargi, углядев возможность ещё раз утвердить свою власть и нанести удар недостаточно лояльному подчинённому, не стал ничего слушать и потребовал у русского примерного наказания, наиболее строгого — помещения в карцер, лагерную тюрьму, и не для виновного, а для Жака, командира его взвода.