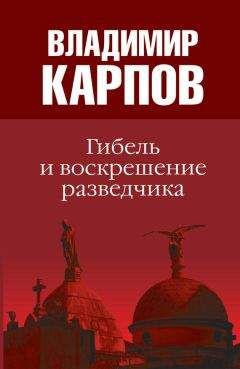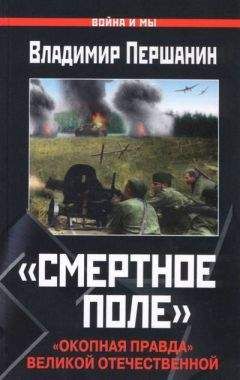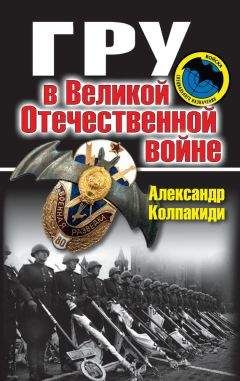Татьяна Алексеева-Бескина - Правда фронтового разведчика
Собаки! Упряжка, сколько их там — три, пять? И волокуша! Уж как собаки нашли его на нейтралке, то ли по запаху одежды, то ли еще как. Раненый собрал все силы и снова, теряя сознание, перевалился в волокушу — лодочку метра два длиной и сантиметров сорок шириной. Только почувствовал, что лодочка поползла, уползло и сознание. Очнулся от боли, когда волокуша вывернула его в наш окоп. Вот тебе и собачки!
52 дня до салюта Победы
Медицина была наготове, перевязали. Ранена нога, перебита рука, две дырки в легких, оттуда потом выковыривали шерсть от полушубка. Пока разрезали полушубок, перевязывали, сознание от боли ушло уже надолго.
Вместе с Игорем эвакуировали еще двух разведчиков, раненных в этой же переделке. Кацман примчался сопровождать Игоря, впавшего в полное забытье, до самого полевого госпиталя, привез его вещи, в них вложил дружескую теплую записку с телефоном и адресом в Ленинграде с уверенностью, что теперь Игорь останется жив и что есть надежда свидеться когда-либо. Позднее он написал и маме Игоря в Москву. А было 18 марта 1945 года — 52 дня до Победы!
Раненых с переднего края доставили в медсанбат дивизии, а затем в ППГ — передвижной полевой госпиталь. За эти сутки Игорь несколько раз приходил в себя и, понимая, что жив, позволял себе снова проваливаться в забытье. А ночью полезла вверх температура. Ощущение дурное, горячечное, кажется, что распух язык и вываливается, нога выросла до гигантских размеров и наваливается, душит. Но ни позвать никого, ни слова сказать язык не позволяет, онемел. Ночь тянется бесконечная, красная, серая, с какими-то вспышками то ли света, то ли взрывов. Давала знать и неизбежная при таком ранении контузия.
Под утро одна из сестер, которые периодически делали обход, подошла поближе, чем обычно, как-то странно принюхиваясь. Игоря это страшно удивило — сестра обнюхивала повязки! Ногу, руку…
Снова смежив глаза, услышал, что сестра окликнула старшую: «Газуха!» Это потом Игорь понял — газовая гангрена, на ноге.
Позвали дежурного врача. При гангрене счет времени, как в бою, — на секунды-минуты. Очнулся, но так и не обрел речь, на операционном столе. Обнаружил, что лежит на боку, нога разбинтована, прислушался.
— Ампутировать, конечно, можно, но уж больно высоко, культю не из чего делать. — Игорь хотел закричать: «Не надо ампутировать!» — но язык свинцово-беззвучен… — Остановимся на массированном иссечении, а там посмотрим.
Дальше раненый понял, что пилить его родную ногу пока не собираются. Рану обкололи, боли он не чувствовал, но видел, как от него открамсывают куски, оттягивая мякоть, и отбрасывают куда-то вниз, что-то делают внутри огромной дыры сантиметров двадцать на десять, там все разворочено. Из разговоров услышал, что «кость зачищена». В рану засыпали что-то белое, целую полулитровую банку стрептоцида, стянули скобками, перевязали, перенесли на койку. Забылся, заснул.
При ежедневных перевязках видел иногда рядом раненого, которому из-за гангрены ампутировали руку по локоть, оказалось мало, затем — плечо, затем пришлось добирать ключицу и лопатку. Сестра переносила соседа на руках, как перышко, ребенок — так был худ и изможден, уж как он выкарабкался…
Как узнал позднее Игорь, оперировал его тогда подполковник медслужбы Джанелидзе — будущее светило советской военной хирургии. Наверно, не последнюю роль сыграло и то, что была весна сорок пятого и все шло к завершению войны. Будь это в боевых условиях сорок третьего или сорок четвертого, оттяпали бы ногу за милую душу, спасали бы простейшим способом.
«21.03.45…Меня опять немножко стукнуло и опять по правой стороне в руку и в ногу. Сейчас лежу, особенно не двигаюсь… Письмо это пишет сестра…»
Под Елгавой, куда после операции направили раненого, находился ФЭП — фронтовой эвакопункт. Огромные черчиллевские палатки были заполнены в четыре ряда по четыре яруса. Все — тяжелораненые, ожидающие отправки по тыловым госпиталям. Апрель сорок пятого — всем отчаянно хочется жить, скорее поправиться.
Сквозь тяжелую дремоту Игорь услышал какое-то движение, легкую суматоху, пришел начальник ФЭПа и: «…где тут капитан Бескин лежит?» И, совсем очнувшись, но не открывая глаз, Игорь тяжко соображал — кто? Открыл глаза: профессор Колбановский, тот самый, московский, из поезда на Бологое под Новый сорок четвертый год!
Начальник ФЭПа обнаружил его, просматривая медицинские карточки. Запомнил ведь! Когда подвели к Игорю, посмотрел историю болезни.
— Ну, теперь все будет хорошо, — сказал радостно. — Усиленное питание. — А усиленное, это еще и сухое вино к рациону. — Как в Москве? Родные-то уцелели, живы? Ладно, назначу непременно вас в поезд через Москву.
Вот только сейчас раненый Игорь хорошо понял новогоднее пожелание Колбановского в поезде — попасть в ФЭП, а уж попасть сюда под самый конец войны — наибольшая гарантия, что будешь живой и День Победы увидишь!
Как только Игорь стал транспортабелен, из Елгавы его направили в Резекне, а через месяц эвакуировали на долечивание в Павлово-на-Оке. Поезд шел через Москву!
Но пока надо было не поддаваться болестям и хворостям, драться за жизнь, за полноценную, некалеченую жизнь. Отсыпаться, приходить в себя после передовой в госпитале можно, но когда ни лечь, ни встать нормально — все это затруднительно. Конструкция, на которой был «распят» Игорь, называлась у раненых «самолет» — согнутая в локте рука поднята на уровень груди, гипсовый корсет — по пояс, загипсованная рука торчит день и ночь, дни, недели. Сначала в санбате наложили на руку шину, а обнаружив на спине две кровящие дырки, приняв их за ссадины, залепили, обработав. Два осколка благополучно остались в легких и пробыли там пятнадцать лет, пока однажды при воспалении не отхаркались, ободрав легкие. Ну, а тогда ранки затянулись, и корсет для «самолета» заковал тело на несколько месяцев. Ногу тоже нельзя было согнуть — могли разойтись скобки огромного шва на бедре. Туалет — только с помощником держать ногу на весу и все прочее. Но тогда «самолет», костыль — все было мелочью по сравнению с пришедшим наконец сознанием того, что уже жив. Жив навсегда! Война кончается, на фронт не возвращаться!
Минул месяц со дня ранения, шел апрель. Госпитальная жизнь в Резекне не отличалась событиями. Рядом в Курляндии все еще шли бои, гибли люди, война бродила около, жили все войной. Апрель сорок пятого торопил весну.
Игорь начал вставать, шкандыбать со своим «самолетом» и костылем. Как-то дошел до окошка, сел на подоконник той половинкой, которой можно было шевелить без опаски. За окном прошлогодняя травка уже поднялась к солнышку, зазеленела. По двору спешно шагает человек, и сбоку у него шлепает по ноге знакомая Игорю кобура! Вот те на! Идет замполит, и у него сбоку болтается трофейный пистолет Игоря, который ни с какими другими не спутаешь! Взял Игорь его у офицера, у которого обнаружил тогда карту минных полей Восточной Пруссии, — «Вальман» — длинноствольный, одиннадцатизарядный; стреляет и как автомат, и одиночными, а в щечках у него два скрещенных меча — наградной. Ах ты, гад, крыса тыловая, по чужим вещам шуровать! Сказал соседу, показал замполита, ребята в палате завелись!