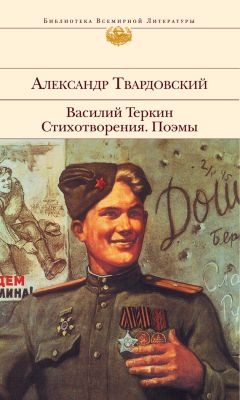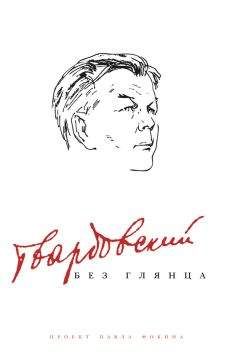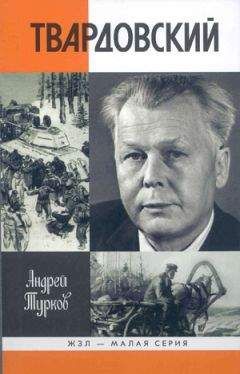Иван Твардовский - Родина и чужбина
В Москве, примерно в начале декабря 1932 года, я получил письмо от тетки из Смоленщины, из которого узнал радостную весть. Наша семья — отец, мать, сестры и маленький Вася — находилась в городе Нижний Тагил. Отец работал на заводе кузнецом, мать и сестра Анна тоже работали, жили все в заводской квартире по улице Тагильской, в доме № 14. Как это все случилось, я узнал значительно позже, в начале 1934 года, когда девятнадцатилетним парнем приехал к своим; уже более года они проживали в селе Русский Турек Уржумского района, что на правом берегу реки Вятки.
Случилось это вот как. После встречи со мной на разъезде Тёша отец благополучно доехал до мест ссылки на Ляле и в приметном для себя месте спрятал свои документы. В поселок он явился как бы с повинной, объяснив, что нигде не смог найти спокойной жизни: "Делайте со мной что хотите!" Встретило его начальство с недоверием, и некоторое время содержали отца в каталажке. В сумке у него нашли московские булки (мечтал угостить, порадовать своих "горемык"), в связи с чем возникало подозрение: "Старик говорит неправду". Допросы и расспросы велись довольно строго, только ночами, чтобы поменьше кто знал о его возвращении. Все же матери и сестрам стало известно, что отец находится в поселке, им удавалось подходить к окошку той каталажки и видеть отца. Он был очень опечален, говорил, что не знает, чем все это закончится. Планов своих он открыть не мог. К тому времени в поселке была организована кузница, но некому было в ней работать: не было кузнеца. Это и помогло делу: отца стали посылать работать в кузнице, а вскоре разрешили соединиться с семьей.
Свою мечту и задачу, ради которой приехал, он не забывал и обдумывал, как лучше ее осуществить. Особая сложность была в том, что с ним вместе их было пятеро — целая группа, незаметно вывести которую из поселка невозможно. Решено было по одиночке или по двое перебираться в определенное место в тайгу, а там, надев самое необходимое, ждать отца. Он должен был уйти из поселка последним.
До самого конца рабочего дня отец был в кузнице, работал, как обычно, оставить работу было нельзя. После работы он домовито пошел в опустевшую хату с охапкой дров. Посидел, покурил и, пожелав сам себе удачи, налегке, с одним лишь топориком, скрылся в тайге.
Рассказывал отец, что очень беспокоился: "Окажутся ли все в условном месте?" "А вдруг «горемыки» мои разбредутся, не окажутся, где нужно? Где их искать?" Но обошлось: отец нашел их.
Младшая наша сестра, Мария, рассказывала, что шли месяца полтора лесами. Часто отец оставлял их, а сам уходил искать какое-либо селение, чтобы добыть картошки. "Так было страшно! — вспоминала Мария. — Бывали случаи, когда ждать приходилось часов по десять, сидя в диком лесу, с напряжением ловя каждый шорох и боясь, что с ним что-то может случиться, и тогда всем нам беда и конец.
Да, можно поверить: нелегко им пришлось.
Глубокой осенью они дошли до села Лая, что в двадцати километрах от Нижнего Тагила. Здесь остановились: почувствовали, что дальше идти не могут. В местном совхозе отец нашел работу, квартиру, привели они себя в мало-мальски человеческий вид: отогрелись, отпарили и отскоблили многослойную грязь бродячей жизни. К зиме перебрались в Нижний Тагил, в тот самый район старого демидовского завода, где отец и проработал несколько месяцев в кузнечном цеху.
Но работа в заводской кузнице, хотя и нравилась ему, все же была для него уже тяжела, не по силам: шел ему пятьдесят седьмой год, да и кузнец он был не заводской, а именно сельский. По этой причине он и переехал с семьей на реку Вятку в село Русский Турек Уржумского района. Этот переезд тоже не был прост и легок. Собрали деньжонок на проездной билет до станции Вятские Поляны, а на оплату подводы от Вятских Полян до Русского Турека у них почти ничего не оставалось. Сто двадцать километров шли они пешком в сторону Уржума по зимней дороге. Но, как ни было тяжело, дошли до того «таинственного» села, где, по рассказам, был дешевый хлеб и где нужен был кузнец.
Был тогда в Русском Туреке большой и богатый колхоз "Красный пахарь". Руководил им умный и хозяйственный председатель Меринов. С великим удовольствием он принял нашего отца на работу по договору в колхозную кузницу. Приглашал и в члены колхоза, но отец воздержался. Голода, особых недостатков в тех местах совершенно не знали. Богатейшее село стояло на правом берегу судоходной Вятки. Места эти были тогда необычайной красоты: простор широчайший, много зелени: пойменных лугов, цветов, лесов, и сам воздух ничем не замутнен — свежесть и прозрачность удивительные. И народ там какой-то особенный: добродушный, гостеприимный и, чем еще отличается, — поголовно песенный. Да как поют! Диво дивное!
Отец, бывало, восторгался аккуратностью и царившим порядком во дворах местных жителей: все выложено плиточным камнем, все покрашено, убрано, присмотрено. А какой хлеб умели выпекать тамошние женщины!
Все это мне стало известно, как уже отмечал, позже. А пока я находился в Москве, работал на стройке. Скажу честно, что никак не ожидал и не предполагал, что быть мне на той стройке суждено недолго. Из-за сущей ошибки, может, даже из-за моего усердия к порученному делу, к обязанностям, так скверно все обернулось, что пришлось уйти. Случилось же вот что.
Производитель работ по надстройке дома № 7 на Малой Лубянке Лебедев (сразу же отмечу — добрейший человек) как-то приметил меня среди прочих. Узнав о том, что я сравнительно ловко мог писать, он дал мне работу в прорабской конторке. Стал я у него вроде секретаря: подшивал бумаги, вел какие-то графики, составлял сводки движения рабочей силы, принимал телефонные звонки, развозил по Москве различные пакеты. По приказу значился делопроизводителем (не знаю даже, есть ли такие должности в нынешнее время на стройках, но в те годы были). В общем, так все пошло хорошо, что и умирать ни к чему. У прораба был заместитель — Ржевский. Юркий такой, энергичный и очень деликатный, воспитанный, и тоже — вполне хороший человек, относившийся ко мне самым сердечным образом, хотя, правда, посмеивался иногда с долей ехидцы, называя меня «делопут». И особой обиды на него я не имел, поскольку и был, пожалуй, делопут. Какой там из меня делопроизводитель!
Вот этот самый хороший человек срочно посылает меня однажды в одну из комнат строящегося этажа, в которой работали жестянщики, передать его распоряжение о немедленном наведении порядка в той комнате, чтобы провести какое-то собрание. Я мчался по лестнице через три ступеньки, грохоча деревянными подошвами (в тот год многие из сезонных рабочих носили обувь на деревянной подошве). Нашел названную комнату и передал распоряжение. Но меня там не хотели слушать и послали на… Я обиделся и сгоряча сказал обидчику оскорбительное слово о национальной принадлежности. И тут же убежал. Однако один из рабочих выскочил и преследовал меня до самой прорабской, грозя жалобой начальству. Ржевский был у себя, и мой преследователь вбежал к нему и пожаловался, всячески преувеличивая суть происшедшего. Ржевский вскипел, поднялся, подошел ко мне и приказал: