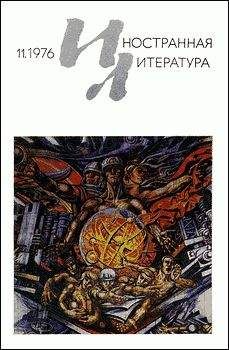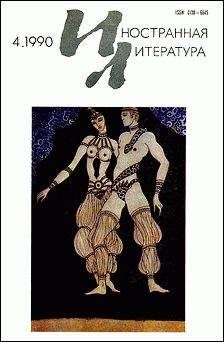Пазолини. Умереть за идеи - Карнеро Роберто
Некоторые мысли, отраженные в стихотворении, были также воспроизведены в романе «Теорема» – Пьетро в нем дает определение протестующим студентам: «Примерные студентики, аудитории, штурмующие смело ради Власти, от которой нужно б отказаться раз и навсегда». Их протест превратился в протест против собственного класса, к которому они тоже принадлежат, против буржуазии, поэтому это – снова – лишь «междоусобная борьба».
О междоусобной борьбе, разворачивающейся внутри самой буржуазии, о студенческих протестах речь шла также и в композиции «Традиционная поэзия» (сборник Trasumanar e organizzar, «Трансгуманизировать и организовывать», 1971) – Пазолини настаивал, что действия молодежи служили сохранению исторических условий существования буржуазии вместо того, чтобы их менять.
Массимо Рафаэлли полагал, что «если посмотреть на стиль и тон в целом, можно заметить, что в “Компартии – молодежи!” поэт предвосхищал “Корсарские письма”, предлагая яркий и актуальный пример» типично пазолиниевского метода “журналистики в стихах” (стилевой прием, авторство которого принадлежит бесспорно ему)»{Massimo Raffaeli, Giornalista in versi: “Il PCI ai giovani!!”, в De Giusti-Felice 2019, стр. 213–220: 218 и 213.}.
По мнению Пазолини, конформист в юности заявляет о себе позерством – писал он в знаменитой первой главе «Корсарских писем» о моде на длинные волосы, под названием «7 января 1973 года. Речь о волосах». В ней Пазолини рассказывал о том, как впервые увидел «волоса» в Праге, в холле гостиницы, за несколько лет до того, как эта мода распространилась в Италии. Он почувствовал к этим ребятам инстинктивную антипатию, потому что их вербальный язык был заменен языком телесных знаков (таких, как длинные волосы), и отметил, что «их система знаков была порождением субкультуры протеста, противопоставляемой субкультуре власти»{SP, стр. 273.}. Несмотря на это, Пазолини потом защищал молодых людей от «атак полиции и фашистов»{Там же, стр. 272.}.
Тем временем, однако, длинные волосы стали чем-то вроде социального обязательства для молодого человека, признаком совершенного и повсеместного конформизма, существующего вопреки всем политическим разделениям на правых и левых. Молодые все равны, должны быть все равны вне зависимости от того, во что они верят (хотя это все то же вечное потребление, потребление, потребление): на телевидении и в рекламе «даже и представить себе невозможно молодого человека без длинных волос: а для людей во власти это нонсенс»{Там же, стр. 277.}, такова сила потребления. «Их свобода носить длинные волосы как хочется, которую не нужно защищать, уже и не свобода вовсе. Скорее пришло время сказать молодым, что их прическа ужасна, потому что вульгарна и имеет холуйский вид. Пришло им время наконец заметить это, и освободиться от раболепного следования убогим обычаям Орды»{Там же.}.
Выбор (или, лучше сказать, отсутствие выбора, поскольку это конформистское обязательство) отращивать длинные волосы, в противовес коротким у отцов, был еще и признаком тотального разрыва между поколениями, навязанного молодежи реальными эволюционными изменениями, эффективным преодолением, в самом позитивном смысле, исторических ограничений и наследия предков.
Радикальное и неизбирательное осуждение собственных отцов, представлявших изменявшуюся историю и культуру прошлых лет, построение защитных барьеров против старших привели к изоляции молодых и невозможности диалектического общения между поколениями. Ведь только через диалектические взаимоотношения, пусть даже и драматические, болезненные, они могли бы получить реальное представление о самих себе, и пойти вперед, «обогнать» родителей. Изоляция, в которой они оказались, как в закрытом отдельном мирке, что-то типа молодежного «гетто», удерживала их в их собственной исторической реальности, что привело – фатально – к регрессу{Там же, стр. 276–277.}.
Подобный способ быть молодым, и жить, и воспринимать молодость, полагал Пазолини, заимствуя название у знаменитой статьи, опубликованной в 1960 году, американского писателя Пола Гудмана, был «абсурдной молодостью»{См. Goodman 1997.}.
Что же касается длинных волос, то в некий момент из прогрессивного и демократического символа «антикапиталистического и антипатриархального дискурса» они превратились в «знак агрессии против общества отцов»{Chianese 2018, стр. 222.}, в эмблему реакции и исключения из общества. Пазолини рассказывал, как в 1972 году в персидском городе Исфахане увидел среди «достойных и скромных сынов с красивыми затылками, красивыми светлыми лицами и гордыми невинными лицами, увенчанными строгими пучками, парочку чудовищ: они не то что были прямо волосатыми, но их волосы были подстрижены по-европейски, длинные сзади, короткие спереди, уложены вокруг лица с помощью средства для укладки так, что над ушами торчали гадкие хвосты»{SP, стр. 276.}. А вот «речь» от лица самих волос: «Мы не имеем отношения к этим помирающим от голода беднякам, к этим недоразвитым нищебродам, застрявшим в варварских временах! Мы служащие банка, студенты, дети разбогатевших работников нефтедобывающих компаний; мы знаем, что такое Европа, читали. Мы – буржуазия: и наши длинные волосы свидетельствуют о том, что мы принадлежим к международному обществу привилегированных!»{Там же.}. Так длинные волосы, взятые на вооружение массовой модой, стали эмблемой идеологических разногласий, признаком экономических и социальных привилегий: от хиппи к яппи, короче говоря.
Следует отметить, что в стилистическом плане оригинальный экспрессивный прием, использованный Пазолини, – дать слово самим волосам, то есть использовать внешнего наблюдателя в исследовании действительности с целью создать интерпретацию, способную выйти за рамки материального мира, – сочетал в себе практичность и поэзию и дополнил семиологию{См. Bazzocchi 2005, стр. 11 ss.}. «Пазолини читал реальность визуальными методами. Они помогали ему видеть знаки, особенности поведения и жесты, тела и физические проявления. Но это не было […] позитивизмом а-ля-Ломброзо, а именно семиологией»{Marco Belpoliti, Pasolini corsaro e luterano, в Gioviale 2004, стр. 49–61: 53.}.