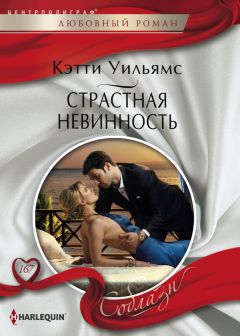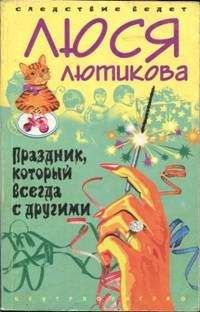Анатолий Черняев - Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991
Мне трудно сказать, хорошо или плохо, если на ключевые посты попадут такие, как Гаврила Попов или Шмелев. Но на месте М. С. я бы попробовал не сопротивляться: пусть покажут, может ли их слово стать делом. Опираться на привычных и управляемых чиновников в ведомствах Лукьянова и в отделе Чебрикова-Павлова — не очень-то получается, как показали пресловутые законы последних месяцев, на которых сейчас всех собак повесили.
Видна и некомпетентность ПБ. Сидишь иногда, слушаешь и стыдно становится за уровень обсуждения. М. С. возвышается над ними. Но он же не может во все вникать. Не в состоянии и организовать подготовку проектов и решений во всех деталях, с учетом всего и вся. Лукьянов хороший чиновник, компетентный, но — с тоталитарной идеологией под прикрытием верности закону. А законы пишет пока он, во всяком случае — проекты.
Речь М. С. в Пекине перед учеными и общественными деятелями — еще одна ступень в новом мышлении. Но в отличие от ООН'овской ее в мире пока никто не заметил — существа ее. (делал он ее с Шахназаровым).
Медведев (бригадир по подготовке доклада М. С. Съезду) манежит с моим международным разделом. Его главные замечания я учел (отделить новое мышление от принципов внешней политики, чтоб не заставлять парламент утверждать философию). А дальше? Темнота. Яковлев не стал вникать. Говорит: по-моему, подходяще. Однако, если выбросят полемический подтекст против апрельского Пленума — этих дебилов, которые хлопали Бебелю, международный раздел доклада «не прозвучит».
Дочитал я, наконец, томик Мариенгофа. Мудрость высокой прозы: сплав содержания (эпохи) и формы, освобожденной от всякой сусальности, от внешних эмоций и поэтому оголенно впечатляющей.
К вечеру ходил в Кремль оформлять свое депутатство. Встретил на лестнице Вайно Вяляса. Похвалил его за мужество и выступление на ПБ. Он просил передать М. С., что будет стоять до конца, «до последней секунды» за Союз. Процедура проста. Дали 400 рублей (а вчера показывали по TV, как у американского конгрессмена: 18 сотрудников и 670 000 долларов на год — на депутатские расходы). Но дай мне хоть столько — что я буду делать, что я могу делать? Абсолютно не представляю себя в роли депутата. Но я просто, наверно, устал, да и никогда не был приспособлен к активной общественной работе. Чурался ее всячески… Ибо не умел. Я — камерный человек. И в политике мое самое место — «за кулисами».
Я написал для М. С. разгромный отзыв — комментарий к тезисам по национальному вопросу, которые изготовили у Чебрикова, — как платформу для обсуждения перед Пленумом по национальным делам в конце июля. Это по принципу: меняя, ничего не менять. Не знаю, как он отреагирует. Между прочим, надо, наконец, прямо сказать об особой роли России, русского народа в Союзе, объяснить честно, почему преобладает русское начало и в жизни и в политическом процессе государства.
А кто не хочет оставаться с русскими, «пусть гуляют». Но и русским надо нести свое бремя достойно, на пределе интернационалистической уважительности.
… Сколько еще в нас шовинистического мещанства!.. Не гордости, как: Нам внятно все — и острый галльский смысл. И сумрачный германский гений.
Нужна высокая культура народа, чтоб нести сейчас бремя русского человека в Союзе, в федерации. Не идеология, а культура.
На Арбате — портреты Николая II. «Огонек» уже второй раз публикует большие статьи о расстреле в Екатеринбурге. TV дает фото (очень интересные) о коронации 1896 года. Это все к тому же: Октябрь — эпизод в истории России и пора именно так к нему относиться.
Но вот едем во Францию. Речь М. С. в Сорбонне. Загладин сочинил аналогию 1789–1917! Не то, старо! Вот даже изощренный и образованный ум не чувствует ни эпохи, ни замыслов Горбачева. То же я обнаружил в поправках к тексту международного раздела для Съезда от Бессмертных (первого зама Шеварнадзе) — МИДовское понимание нового мышления (как концепции, а не новой философии, отказывающейся от идеологии).
Убирая очередной дневниковый блокнот, решил перелистать свои старые, 40-летней давности, записные книжицы. сразу после войны: Бог мой! Сколько же всего начитал самой серьезной, самой немарксистской, самой философской литературы! И выписывал уйму. И это — в разгар культа личности, до которой в душе мне не было, очевидно, никакого дела. Я жил отдельно от внешней для меня идеологической среды. И ни до, ни во время, ни после войны культ, сталинизм никак не отразились на моем духовном развитии. Хотя глухота совести и ума появилась, как это ни странно, уже после XX съезда, во время хрущевского отступления от него и моей работы в Отделе науки ЦК — отупляющей и духовно развращающей. Но потом был журнал «ПМС», который меня спас. И хотя я не склонен разделять восторги по поводу А. М. Румянцева (он всегда казался и глуповатым, и темным), но объективно и в моей жизни он сыграл роль: ведь это именно он вспомнил обо мне, когда его назначили шеф-радактором ПМС, и позвал ехать в Прагу из ЦК, а Кириллин (зав. Отделом науки) с удовольствием меня отпустил.
Когда М. С. повторяет: все мы дети своего времени (в том смысле, что всем нам надо соскребать с себя прошлое). и меня в свою компанию зачисляет, я «не присоединяюсь». Я жил все таки в основном по законам российской интеллигенции. Никогда у меня не было ненависти к «белогвардейщине», никогда я никого, включая Троцкого, не считал «врагом народа», никогда не восхищался Сталиным и всегда фиксировал для себя его духовное убожество, никогда я не исповедовал официальный, т. е. сталинский марксизм-ленинизм. Помню свое поведение на семинарах по истмату и диамату в МГУ, когда я тех же Ковальзона и Келле загонял в неловкое положение, задавая им вопросы, на которые они знали ответы, но не могли честно отвечать. И видел, что они согласны со мной, но пытались учительски воспитывать меня.
Если бы Бог дал мне ум посильнее и характер по организованнее, я, наверно, что-то сумел бы оставить после себя.
А, впрочем — что оставить? Загладин, например, написал в общей сложности около тысячи печатных листов. А кому это нужно? Кто это и когда станет читать? И хорошо, что начиная с 70-х годов я перестал публиковаться. Не только из-за лени, а и потому, что не мог я писать так, чтобы потом не было стыдно.
Вспоминая написанное в 60-х годах, соглашаюсь с профессором Ерусалимским, что наиболее яркое и честное — была статья в журнале «Новая и новейшая история», написанная сразу по возвращению из Праги. Ерусалимский сказал тогда, что она вчетверо подняла тираж журнала. Вспоминаю свой доклад на теоретической конференции в Международном отделе. Он был опубликован в сборнике, мизерным, по тем временам тиражом (3000 экз) в 1968 году. Бурлацкий позвонил мне тогда: хорошо, говорит, тебе Толя, за толстыми стенами третьего подъезда ЦК КПСС. От нас, грешных, за такую статью партбилет бы попросили.