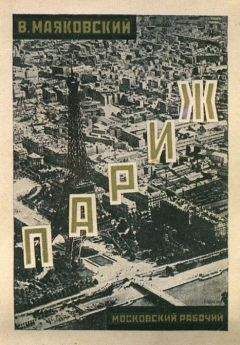Владимир Маяковский - Памфлеты, очерки и зарисовки
Ему, очевидно, нравилось бы писать вещи того же порядка, что «Облако в штанах», но в Польше и с официальной поэзией и то не просуществуешь, — какие тут «облаки»! Даже такие смирные, мифически потусторонние писатели, как одна из слав Польши — Пшибышевский, влачат жалковатое существование. Правительственная субсидия какому-нибудь «маститому» злотых 800 в месяц (рублей 180) уже вызывает писательскую зависть.
Что же делать Тувимам? Тувимы пишут тексты для певиц и певцов варьете.
(Глупые скажут: «А сам про Моссельпром писал?» — Я про Моссельпромы хочу писать потому, что нужно. А ему для варьете и не нужно и не хочется.) И варьете прекрасно, если писать хоть немного «что хочешь».
Какое тут «хочешь», если такую польскую славу, как Жеромский, и то перед смертью вызывали в дефензиву с недоуменнейшим вопросом — как это ему в голову пришло написать такую революционную вещь? И Жеромский шел!
Правда — можно писать и против того, что видишь. Но тогда кто тебя будет печатать?
А если тебя отпечатает нелегально нелегальная коммунистическая партия — готов ли ты садиться в цитадель на четыре, на шесть, на восемь лет?
А кто сейчас в силах идти на этот героизм, кроме человека, принадлежащего к классу, верящему в победу коммунизма?
Но можно писать просто книжечки, — такие, чтобы и вашим и нашим.
Такие еще труднее.
Кроме горизонтального разреза на классы, встретишься еще и с вертикальным — нации. Это при обязательном польском языке! Это значит, из тридцати миллионов населения восемь миллионов украинцев не прикоснутся к твоей книге. А если ты еще и еврей и пишешь на польском — разве евреи будут тебя читать?
А Тувиму надо и некоторой бури и некоторого оживления, как у футуристов, как у лефов.
Найди и оживись, когда тебе приходится имитировать крупную литературную работу чтением выхолощенных стихов, разъезжая из столицы Варшавы в провинцию Вильно!
Что за провинция и какая столица?
Когда я ехал из Негорелого в Столбцы, я сразу отличил границу и то, что она польская, по многим и солидно закрученным колючим проволокам. Те, которые еще не успели накрутить, лежали тут же, намотанные на длинные, кажется, железные катушки.
Здание станции Столбцы, и чистое видом и белое цветом, сразу дало и Европу и Польшу.
Вот это забота, вот это стройка!
Но сейчас же за Столбцами пошла опять рухлядина — длинные-длинные перегоны без жилья и крестьян и косые хаты.
А разоренья и запустенья, пожалуй, и больше.
Видал я на полпути станцию — большая, очевидно. Поезд держала минут пять. Станция странная: только передняя стена, которую не имели в виду ремонтировать, сквозь выбитые окна виднелись земля, небо-потолок, трава-пол. На стене висел колокольчик. Только к одной трети стены были прилеплены телеграф и багажное. Перед этой стеной стояли четыре жандарма. Непонятная архитектура!
Правильнее было бы делать станции из четырех стен и с одним жандармом.
Редкие станции еще и малолюдны. Поезда пусты. В норд-экспрессе, мчащемся из Берлина в Варшаву, на 7 вагонов было человек пятьдесят. В простейшем поезде из Варшавы в Негорелое на девять вагонов ехало (не преуменьшаю) человек семь. Рядом с нашим вагоном тащился один совершенно пустой мягкий, один совершенно пустой жесткий и рядом — жесткий вагон всего с одним пассажиром. Правда, это — уже подъезжая к границе; вероятно, это редкость, но даже и для редкости пассажиров все-таки мало.
Когда подъезжаешь к Варшаве, кажется, что подъезжаешь к огромному городу. Кажется — потому что долго идет пригород, подготавливают крепость и цитадель, заставляет всматриваться растущий разгон предместья, и только когда прибываешь на станцию Варшава — оказывается, что и пригород и предместье — они и есть уже столица.
Странное ощущение — разбег без прыжка.
Временный деревянный барак вокзала еще больше увеличивает недоуменье.
При выходе на улицу две-три не то чтобы вертящиеся, а так, подпрыгивающие рекламы — смешат желанием походить на Европу.
Мысль о бедности провожает вас по улицам. Средний уровень одежи скорей приближается к московскому, чем, например, к берлинскому виду.
Обилие извозчиков. Такси, введенные недавно, еще не очень привились.
Магазины полны — но тоже какой-то провинциальной полнотой. Есть все — кроме того, что вам нужно.
Ни одно здание, ни одна стройка (кроме разве старых домов старого города) не останавливает вас. Бельведер, насколько позволяет поле зрения, так — загончик, гостиницы — средненькие, жилья — ординарные.
Лучшим местом мне показалась огромная площадь, оставшаяся после срытия православного собора (первая часть безбожной программы выполнена — остается срыть только католические); на этой площади памятник Понятовскому. Понятовский на лошади, без штанов, тычет мечом в сторону Украины. Памятник этот не совсем плох уже одним тем, что памятник Шопену много хуже.
Шопен — это какая-то скрюченная фигура, а рядом — больше фигуры — не то разбрызганные валы, не то раскоряченные коряги.
Спрашивают: «Что это у него рядом?»
Говорят: «Хаос».
Если рядом с человеком такое находится — это, действительно, большой беспорядок, но лепить это и ставить в саду — совершенно нелепо.
Постановка памятника оправдывается тем, что его, кажется, француз Польше подарил.
Говорят, сейчас гордая Польша собирает деньги, чтобы отправить их скульптору в награду, так как Польша не хочет пользоваться даровым.
Впрочем, злые люди утверждают, что французы уже раньше собрали деньги, только чтобы этот памятник был вывезен из Парижа.
Шумно только на главных улицах. Боковые пусты и молчаливы. Впрочем, последние дни, в связи с варшавскими городскими выборами, стало шумней и оживленней.
Поволки и легковые извозцы изукрашены плакатами и лозунгами.
Из разных окон раскидывается мелкий снег предвыборных летучек, иногда сплошь белящий и тротуары и мостовые.
Потом по тротуарам пошли намалеванные черной краской номера выборных списков. Краска паршивая и моментально стиралась шаркающими.
По стенам и заборам выклеены антибольшевистские плакаты: конечно — латыши, конечно — зверского вида, конечно — расстреливают каких-то людей честного и страдающего вида.
У польского правительства есть более верное средство предвыборной борьбы. Оно просто аннулировало коммунистический список № 10 по каким-то формальным основаниям.
Пепеэсовцы немедленно выпустили протестующую прокламацию, где обвинялись сами коммунисты. Они, дескать, против демократии, поэтому с ними-де так недемократически и поступают.