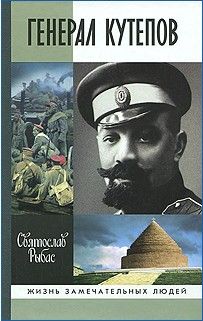Святослав Рыбас - Русский крест
В годину буйных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей...
- Да, - произнес Артамонов и повторил: - Пошли нам, Господи, терпенье... Ты только не жалей их. Конечно, калеки, не сразу привыкнешь. Но они живее тебя, они верят.
- В Бога, что ли? - спросила Нина.
- В Россию верят. Ты ведь тоже когда-то верила.
- Им нельзя не верить, я понимаю, - согласилась она. - А нам?
- Они - хорошие, - сказал он. - В них сохранилось то, что мы потеряли. Они выстрадали свою веру.
- А мы чурки деревянные? - заметила Нина. - Я тоже верю в Россию. Иначе жить незачем. Думаешь, я живу ради торговли?
Артамонов так не думал. Он громко хмыкнул и пошевелил плечами, отчего приподнялся пустой рукав. Было видно, что ему не хочется рассуждать о ее вере.
Они купили вина, больших татарских бубликов, калачей, брынзы и, наняв извозчика, поехали в Корабельную Слободку к Малахову кургану. Там в маленьком домике, похожем на домик Осиповны, обитали инвалиды, члены Союза увечных воинов. По дороге Артамонов вспомнил о памятнике адмиралу Корнилову на кургане - связь двух Корниловых была явной, - но вспомнил без надрыва, а как о бессмертной душе. И снова Нина подумала, что все погибает, что эти сладкие молитвы прошлому не дадут штабс-капитану, не дадут тысячам и тысячам других людей отступить от края. Ее ожидало впереди полное одиночество.
- Все о войне и о войне! - с упреком сказала она. - Ведь мы с тобой, кажется, скоро уж распрощаемся.
- Пеший конному не товарищ, - ответил Артамонов. - Судаков уже успокоился, Пауль уехал, а я тоже куда-нибудь приткнусь.
Вскоре они приехали к артамоновским инвалидам.
Двое безногих молодых людей жили в семье судового механика и вместе с сыном хозяина, слепым юношей с обожженным лицом, занимались плетением корзин. Нина пожалела, что приехала: она устала от мучений. Смущаясь от того, что здорова и богата, она знакомилась с ними, зачем-то ощупывала поданную ей корзину и не могла понять Артамонова. Что он хотел показать? Все были любезны с ней, как с чужой.
- А-а, вы продали свай рудник? - удивленно произнесла хозяйка и стала извиняться за то, что не готова по-настоящему угостить ее.
- Да она такая же, как и вы! - грубовато заявил хозяйке Артамонов. Она не кусается.
Сидевший на скамейке безногий (у него не было обеих ног) уперся руками в скамейку и передвинулся.
- Это Родионов, - назвал его Артамонов.. - Командир броневика "Доброволец".
- Я слышала про ваш броневик, - вспомнила она. - Я где-то читала объявление.
Слепой юноша повернул к ней белесые выкаченные бельма, улыбнулся.
- Мы в Феодосии объявление давали! - обрадованно сказал он.
- Мясорубку искали...
- Да, кажется, - согласилась Нина.
Мясорубку они нашли, побывали в ней - это бросалось в глаза.
- Сейчас на фронте большие успехи, - продолжал слепой с приподнятой интонацией, словно спешил донести до Нины свой дух добровольчества. - Вы знаете, мне снится, что мы едем на броневике и впереди - пахота. Я знаю, что на пахоте непременно застрянем, но в объезд никак нельзя. И застряли. Пехота отступает. Вот-вот красные нахлынут. А мы стоим, колеса буксуют, машина дрожит...
Юноша затряс сжатыми кулаками, и его обтянутый розовой тонкой кожицей лоб наморщился, как будто мелкими трещинками покрылись голые надбровные дуги.
- Да она не любит страстей, - сказал Артамонов. - Она всякого навидалась...
Юноша повернул к нему голову, его рот капризно выгнулся.
- Она собирается бежать в Константинополь, - твердо произнес штабс-капитан. - Ты не сердись, Мишаня. Сейчас вина выпьем. Не надо страстей.
- Ты меня не обижай, - примиряюще вымолвил слепой и обратился к Нине: Вы вправду уезжаете?
- Уезжает, уезжает. Отстань, - сказал Артамонов. - Дай познакомиться.
- Вот скажу Манюне, что ты хамишь, она тебе задаст, - предупредил юноша. - Манюня, иди сюда!
На крыльце появилась девушка лет семнадцати, это и была Манюня. Она строго и одновременно по-приятельски прикрикнула на Артамонова, чтобы он не обижал ее брата, потом спустилась во двор и познакомилась с Ниной.
Наконец Нина смогла составить определенное впечатление об этой семье. Главным здесь был не слепой Мишаня и его товарищи-калеки, не отец с матерью, а эта девушка. Инвалиды ей подчинялись, родители смотрели на нее чуть ли не с благоговением, а Артамонов непонятно зачем подразнивал ее.
Манюня принесла скатерть, взмахнула ею, вытягиваясь, отчего сарафан облепил ее тонкую спину, потом ей не понравилось, как легла скатерть, и она снова взмахнула ею. Уложив скатерть, Манюня поглядела на Нину, словно спросила: "Ну как? Нравлюсь я вам?"
"Молодец", - ответила взглядом Нина.
Девушка играла, не верила, что ее маленький дом, где она жила с отцом и матерью, может быть разрушен.
От нее еще веяло недавним детством, незыблемыми традициями, семейным очагом.
- Самовар! - воскликнула Манюня. - Господа офицеры, заряжаем пушку!
В Нининой душе повернулся какой-то ключ и заглянул казачий офицер, который потом стал ее мужем, а за ним - слепой летчик Макарий, который был ближе чем кто бы то ни был и который не стал мужем. "Ты была такой, как эта девочка, - сказали они. - Спаси ее".
А как спасти? Это только казалось, что семейный очаг вечен. Нет, не вечен. Знали об этом и покойники, знала и Нина. Но все-таки ничего другого, кроме семейного очага и Бога, не существовало для защиты человека от горя. Поэтому не могла Нина спасти Манюню. Могла только увезти с собой куда-нибудь за море, вырвать из родной почвы.
"Как я ее спасу? - ответила Нина теням. - Я ей завидую".
"Тогда останься в Крыму, - сказал Григоров. - Не бойся погибнуть. Смерть - это мгновение".
"Ты хочешь, чтобы я умерла? - спросила Нина. - Я еще поживу!" Но она не знала, зачем жить.
Она заметила, как Артамонов ласково смотрит вслед носящейся в хлопотах Манюне, и ей почудилось, что он влюблен.
Накрыли на стол, зажгли яркий фонарь и повесили над столом на проволоке. Сразу стало уютно, свет как будто сгустил вечерние сумерки.
Начались разговоры о положении на фронте, об отношениях Врангеля с англичанами и французами, о том, что лучше - спокойная жизнь и зависимость от Европы или война с Европой и полная независимость. Все склонялись к независимости от Европы.
- Так ведь этого хотят и красные! - заметила Нина. - Они устроили новую китайскую империю, а мы же, европейцы, хотим отгородиться от культуры.
Конечно, ее не поняли. Инвалиды были воинственны, а хозяева равнодушны. Только одна Манюня пыталась примирить Нину с остальными. Но что она понимала?
Нина почувствовала, что остается одна. Снова Скифия окружала ее. Снова мелькнуло воспоминание о судаковском тракторе, простоявшем в сарае за ненадобностью. И весьма просто сочеталось с этой Скифией сегодняшнее распоряжение военного коменданта об изъятии помещения у кооператива.