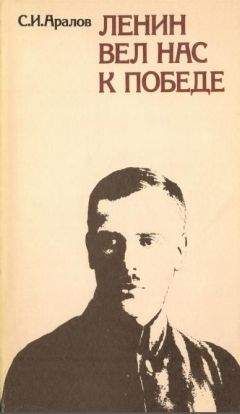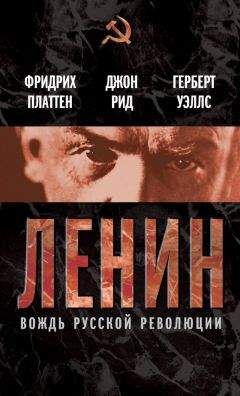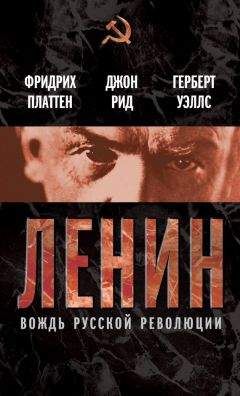Бенедикт Лившиц - Полутораглазый стрелец
Маринетти держал себя с большим тактом, стараясь как можно меньше походить на знаменитого гастролера. Он даже догадался твердо запомнить несколько русских имен, проявив этим минимальное уважение к стране, куда он приехал, и застраховав себя от комических промахов, от которых впоследствии не уберегся Дюамель, расспрашивавший меня о пролетарских поэтах Гумилеве и Ахматовой. Он с большим брио прочел два-три отрывка из своей последней книги «Цанг Тумб Тууум», выказав действительно виртуозное дарование звукоподражателя. Пока он декламировал, Кульбин успел набросать его портрет: несколько прямых линий, отлично передававших характер его лица.
Оно все просияло, когда неистощимый на изыскания и выкладки Николай Иванович обратил его внимание на то, что начальные буквы его двойного имени и фамилии, Филиппо Томмазо Маринетти, заключают в себе основные звуки слова ФуТуризМ. На него это произвело огромное впечатление наконец-то расшифрованного гороскопа. С той минуты он уже не писал слово «футуризм» иначе, как подчеркивая в нем прописными буквами свои инициалы.
Все движения и жесты Маринетти отличались порывистостью и пылкостью, выделявшими его из общей массы, хотя компанию, собравшуюся на Максимилиановском, никак нельзя было признать типичной представительницей уравновешенно-чинного Петербурга. Я был далек от мысли заподозрить в нашем госте искусственную аффектацию: его искренность не вызывала у меня никаких сомнений, его экспансивность была лишена и тени притворства...
«Можно ли, однако, назвать это настоящей любовью и настоящей ненавистью?» – задавал я себе вопрос и решал его отрицательно. Любовь к будущему и ненависть к прошлому были у Маринетти не простыми человеческими чувствами, а явлениями, аналогичными взаимному притяжению и отталкиванию химических элементов: недаром в его выкриках мне чудился характерный треск, сопровождающий ряд химических реакций. Спали же будетляне с Пушкиным под подушкой, хотя и сбрасывали его с «парохода современности»!
За ужином меня посадили рядом с Маринетти. Вино быстро развязало нам языки. Маринетти уже знал про вчерашнюю листовку, кто-то даже перевел ее ему, и он первый заговорил на эту тему:
– Вы правы в одном: кровь расы – не волос Магдалины... Через нее нелегко перешагнуть. Да и незачем! Но у нас с вами общий враг – пассеизм. Мы должны действовать сплоченно...
– Пассеизм в Италии и пассеизм русский – у нас этим термином можно пользоваться только условно – вещи глубоко различные... Гнет прошлого, ваша главная трагедия, нам почти неизвестен: он ведь прямо пропорционален количеству национального гения, воплощенного в произведениях искусства. Ваши лозунги утрачивают у нас весь свой пафос. В России не было Микеланджело, а Опекушины, Антокольские, Трубецкие – кому они мешают? К тому же разве это – русское искусство?
– А Пушкин?
– У нас есть Хлебников. Для нашего поколения он – то же, что Пушкин для начала девятнадцатого века, то же, что Ломоносов для восемнадцатого...
Я пробую, как умею, растолковать моему собеседнику, в чем заслуги Хлебникова перед русским языком и русской поэзией. Это получается у меня, должно быть, не слишком убедительно, потому что Маринетти вдруг заявляет:
– Нет, словотворчество еще не все... Вот мы – мы разрушили синтаксис!.. Мы употребляем глагол только в неопределенном наклонении, мы упразднили прилагательное, уничтожили знаки препинания...
– Ваше воительство носит поверхностный характер. Вы сражаетесь с отдельными частями речи и даже не пытаетесь проникнуть за плоскость этимологических категорий... Вы не хотите видеть в грамматическом предложении лишь внешнюю форму логического суждения. Все стрелы, которыми вы метите в традиционный синтаксис, летят мимо цели. Несмотря на вводимые вами новшества, связь логического субъекта с предикатом остается непоколебленной, ибо с точки зрения этой связи безразлично, какою частью речи выражены члены логического суждения.
– Вы отрицаете возможность разрушения синтаксиса?
– Ничуть не бывало. Мы только утверждаем, что теми средствами, какими вы, итальянские футуристы, ограничиваетесь, нельзя ничего добиться.
– Мы выдвинули учение о зауми как основе иррациональной поэзии, – поддерживает меня подсевший к нам Кульбин.
– Заумь? – не понимает Маринетти. – Что это такое?
Я объясняю.
– Да ведь это же мои «слова на свободе»! Вы знакомы с моим техническим манифестом литературы?
– Конечно. Но я нахожу, что вы противоречите самому себе.
– Чем? – загорается Маринетти.
– Собственным чтением!.. Какую цель преследуете вы аморфным нагромождением слов, которое вы называете «словами на свободе»? Максимальным беспорядком свести на нет посредствующую роль рассудка, не правда ли? Однако между типографским начертанием вашего «Цанг Тумб Тууум» и произнесением его вслух – целая пропасть.
– Мне говорили то же многие из моих слушателей, пожелавшие дома прочесть мою книгу.
– Это только подтверждает мысль, которую я собирался высказать вам... Пробовали вы отдать себе отчет, чем объясняется различие между записью ваших «слов на свободе» и вашим чтением? Я только что слушал вашу декламацию и думал: стоит ли разрушать, хотя бы так, как делаете вы, традиционное предложение, чтобы заново восстанавливать его, возвращая ему суггестивными моментами жеста, мимики, интонации, звукоподражания отнятое у него логическое сказуемое?
– А вы знаете, что Боччони ваяет одну и ту же вещь из разного материала: из мрамора, дерева, бронзы?
– О, это совсем не то. По-моему, произведение искусства закончено лишь в том случае, если оно замкнуто в самом себе, если оно не ищет дополнения за пределами самого себя. Поэзия – одно, декламация – другое...
– Декламация! – перебивает меня Маринетти. – Дело не в этом. Она лишь переходная ступень, временная замена синтаксиса, исполнявшего до сих пор обязанности толмача и гида. Когда нам удастся ввести в обиход то, что я называю «беспроволочным воображением», когда мы сумеем отбросить первый ряд аналогий, чтобы ограничиваться лишь вторым рядом, – словом, когда мы заложим прочные основания для нового, интуитивного восприятия мира, в котором рассудок займет подобающее ему, более чем скромное место, ни о какой декламации не будет речи.
– Бергсон... – пробует раскрыть рот Кульбин.
– Бергсон тут ни при чем! Вы, значит, не читали моего «Дополнения к техническому манифесту футуристической литературы»? – обиженно удивляется Маринетти. – Открещиваясь от всякого влияния бергсоновской философии, я указываю в нем, что еще в 1902 году я взял в качестве эпиграфа к моей поэме «Завоевание звезд» то место из «Разговора Моноса и Уны», где По, сравнивая поэтическое вдохновение с познавательными способностями разума, отдает безусловное предпочтение первому. Почему, – волнуясь, повышает он голос, – нельзя произнести слово «интуиция», чтобы немедленно не выплыла фигура Бергсона? Можно подумать, что до него в мире существовал только голый рационализм.