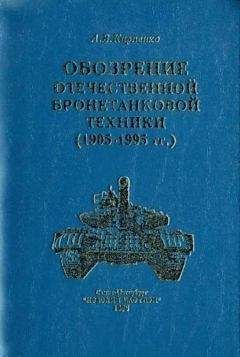А Герцен - Былое и думы (Часть 1)
Когда я возвратился, в маленьком доме царила мертвая тишина, покойник, по русскому обычаю, лежал на столе в зале, поодаль сидел живописец Рабус, его приятель, и карандашом, сквозь слез, снимал его портрет; возле покойника молча, сложа руки, с выражением бесконечной грусти, стояла высокая женская фигура; ни один артист не сумел бы изваять такую благородную и глубокую "Скорбь". Женщина эта была немолода, но следы строгой, величавой красоты остались; завернутая в длинную, черную бархатную мантилью на горностаевом меху, она стояла неподвижно.
Я остановился в дверях.
Прошли две-три минуты — та же тишина, но вдруг она поклонилась, крепко поцеловала покойника в лоб и, сказав: "Прощай! прощай, друг Вадим", твердыми шагами пошла во внутренние комнаты. Рабус все рисовал, он кивнул мне головой, говорить нам не хотелось, я молча сел у окна.
Женщина эта была сестра графа Захара Чернышева, сосланного за 14 декабря, Е. Черткова.
Симоновский архимандрит Мелхиседек сам предложил место в своем монастыре. Мелхиседек был некогда простой плотник и отчаянный раскольник, потом обратился к православию, пошел в монахи, сделался игумном и, наконец, архимандритом. При этом он остался плотником, то есть не потерял ни сердца, ни широких плеч, ни красного здорового лица. Он знал Вадима и уважал его за его исторические изыскания о Москве.
Когда тело покойника явилось перед монастырскими воротами, они отворились, и вышел Мелхиседек со всеми монахами встретить тихим, грустным пением бедный гроб страдальца и проводить до могилы. Недалеко от могилы Вадима покоится другой прах, дорогой нам, прах Веневитинова с надписью: "Как знал он жизнь, как мало жил!" Много знал и Вадим жизнь!
Судьбе и этого было мало. Зачем, в самом деле, так долго зажилась старушка мать? Видела конец ссылки, видела своих детей во всей красоте юности, во всем блеске таланта, чего было жить еще! Кто дорожит счастием, тот должен искать ранней смерти. Хронического счастья так же нет, как нетающего льда.
Старший брат Вадима умер несколько месяцев спустя после того, как Диомид был убит, он простудился, запустил болезнь, подточенный организм не вынес. Вряд было ли ему сорок лет, а он был старший.
Эти три гроба, трех друзей, отбрасывают назад длинные черные тени; последние месяцы юности виднеются сквозь погребальный креп и дым кадил…
Прошло с год, дело взятых товарищей окончилось.; Их обвинили (как впоследствии нас, потом петрашевцев) в намерении составить тайное общество, в преступных разговорах; за это их отправляли в солдаты, в Оренбург. Одного из подсудимых Николай отличил — Сунгурова. Он уже кончил курс и был на службе, женат и имел детей; его приговорили к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь.
"Что могли сделать несколько молодых студентов? Напрасно они погубили себя!" Все это основательно, и люди, рассуждающие таким образом, должны быть довольны благоразумием русского юношества, следовавшего за нами. После нашей истории, шедшей вслед за сунгуровскои, и до истории Петрашевского прошло спокойно пятнадцать лет, именно те пятнадцать, от которых едва начинает оправляться Россия и от которых сломились два поколения: старое, потерявшееся в буйстве, и молодое, отравленное с детства, которого квёлых представителей мы теперь видим.
После декабристов все попытки основывать общества не удавались действительно; бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы — предварительно, внутренней. Все это так.
Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг, на сотни поляков, гремевших цепями по владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Дашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести. В нравственную очистку поколения, в залог будущего они должны были негодовать до безумных опытов, до презрения опасности, Свирепые наказания мальчиков 16–17 лет служили грозным уроком и своего рода закалом; занесенная над каждым звериная лапа, шедшая от груди, лишенной сердца, вперед отводила розовые надежды на снисхождение к молодости. Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово — годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз, но они гибли, не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования:.
Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции. Первая игра голубой кошки с мышью началась так.
Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург, Огарев в нашем кругу и И. Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег, Киреевский привез собранные деньги коменданту Стаалю, добрейшему старику, о котором нам придется еще говорить. Стааль обещался деньги отдать и спросил Киреевского:
— А это что за бумаги?
— Имена подписавшихся, — сказал Киреевский, — и счет.
— Вы верите, что я деньги отдам? — спросил старик,
— Об этом нечего говорить.
— А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. А потому на что ж нам беречь их имена. — С этими словами Стааль список бросил в огонь и, само собою разумеется, поступил превосходно.
Огарев сам свез деньги в казармы, и это сошло с рук. Но молодые люди вздумали поблагодарить из Оренбурга товарищей и, пользуясь случаем, что какой-то чиновник ехал в Москву, попросили его взять письмо, которое доверить почте боялись. Чиновник не преминул воспользоваться таким редким случаем для засвидетельствования всей ярости своих верноподданнических чувств и представил письмо жандармскому окружному генералу в Москве.
Тогда на месте А. А. Волкова, сошедшего с ума на том, что поляки хотят ему поднести польскую корону что за ирония — свести с ума жандармского генерала на короне Ягеллонов!), был Лесовский. Лесовский, сам поляк, был не злой и не дурной человек; расстроив свое именье игрой и какой-то французской актрисой, он философски предпочел место жандармского генерала в Москве месту в яме того же города.
Лесовский призвал Огарева, К<етчера>, С<атина>, Вадима, И. Оболенского и прочих и обвинил их за сношения с государственными преступниками. На замечание Огарева, что он ни к кому не писал, а что если кто к нему писал, то за это он отвечать не может, к тому же до него никакого письма и не доходило, Лесовский отвечал: