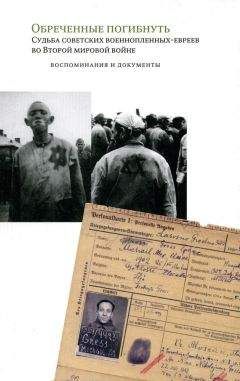Павел Полян - Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне: Воспоминания и документы
В 8 часов утра 8 мая комендант отдал команду выходить строиться со всеми вещами. Присутствовала вся охрана. Провели поверку и сразу обнаружили побег. Обследовали лагерь, увидели подрезанную ограду и… успокоились. Немецким солдатам все уже было безразлично.
Колонна военнопленных по пять человек в ряду, более 200 человек, окруженная полувзводом немецкой охраны, двинулась по горной дороге на юг. К нам присоединились и три украинки-поварихи. Перед отправкой из лагеря нас не кормили. Колонна двигалась малой скоростью — не более 2 км в час, так как и среди конвоиров, и среди пленных были одноногие инвалиды. Колонна растянулась, но конвоиры не подгоняли. Они уже знали то, что мы еще не знали: война окончилась; немецкое командование подписало акт капитуляции перед командованием западных союзников СССР и через несколько часов подпишет капитуляцию и перед командованием Красной Армии.
Я шел в голове колонны. Через час ко мне подошел комендант и сказал: «Krieg kaput, Hitler kaput» — «Война окончена, Гитлер — мертв». Я передал это по колонне; все взбодрились. Комендант сказал, что нас передадут организованно советскому командованию — такое его требование охране известно и таков приказ немецкого командования. У нас выбора не было, мы были безоружны. Каждые два часа устраивали привал. Охрана вела себя вполне дружелюбно, стиль отношений совершенно изменился. Конвоиры подходили ко мне, просили перевести пленным, что они — солдаты — рады окончанию войны, что их суровое обращение с нами было не по их воле — этого требовало их начальство; ослушание им грозило строгим наказанием и т. п. Волки на наших глазах превращались в ягнят. С другой стороны, в эти часы мы видели в нашей охране защиту от возможных нападений эсэсовцев, которые, как это всем было ясно, озлоблены поражением и никого не пощадят.
В общей сложности в этот последний день войны наша колонна прошла километров 12–15. Привели нас в деревню Никсдорф (Nixdorf), уже в Судетской области. Здесь, видимо, располагалась крупная рабочая команда. Сюда согнали из окружающих лагерей тысячи советских военнопленных и продолжали их содержать под стражей под начальством крупного чина, кажется — полковника, что само по себе было необычно. Разместили нашу команду в огромном сарае на холме. В качестве подстилки можно было использовать немного соломы. Вечером нас все же накормили «сухим» пайком: выдали по буханке хлеба на десять человек и по небольшой сырой брюквине.
Нарастали звуки артиллерийской стрельбы, слышались дальние пулеметные очереди; когда стемнело, стало видно зарево пожаров на севере. Но из сарая выйти было нельзя — на посту стоял вооруженный солдат. Делать было нечего, мы все еще находились во власти противника. В 22 часа мы улеглись на солому и заснули под аккомпанемент уже привычной орудийной стрельбы.
Проснулись мы в полночь от внезапно наступившей тишины. Стрельба смолкла. Я и еще несколько молодых ребят подошли к выходу из сарая. Часового на посту не было, а его винтовка валялась на земле. Вот когда мы осознали и почувствовали, что войне пришел конец. Посоветовавшись, мы решили до рассвета из сарая не выходить. Взяли трофейную немецкую винтовку и коллегиально распределили очередь дежурства — по часу. У меня тогда были плохонькие наручные дамские часы, выменянные еще зимой на краденый сахар. По ним и следили за сменой караула. Никто из нас не спал. На душе были радость и тревога. Радость Победы, освобождения из долгого плена и тревога за будущее. Мы опасались и эсэсовских нападений и своей встречи с освободителями. Мы не знали, как к нам отнесутся; помнили, что в Красной Армии нас в свое время предупреждали: каждый попавший в плен — изменник Родины. Что из того, что в плен мы были захвачены не по своей воле, что нас были миллионы и что в плену оказались и особисты и политработники (я сам был замполитом), т. е. те, кто в первую очередь предупреждал о плене как измене.
Ранним утром мы услышали шум автомашин и танков. Вышли из сарая на дорогу — там двигались советские войска. Как мы узнали у остановившихся офицеров (на них я впервые увидел погоны), это были войска 1-го Украинского фронта, направлявшиеся освобождать Прагу. Мы взаимно приветствовали друг друга, но долгих бесед не заводили, они торопились. Нам сказали, — организованно отправляйтесь на восток, на сборный пункт 1-го Украинского фронта. Среди проходивших войск были и части 2-й Польской армии, впрочем, наполовину состоявшие из советских солдат, но в польском обмундировании. Молодой поляк с сержантскими нашивками обратил на меня внимание и спросил: «Юде?» Я отрицательно помотал головой, но еще раз ясно понял, что я все же вполне опознаваем для опытного взгляда. То, что я пережил годы плена, — везение необыкновенное, чудо!
Войска прошли, и мы остались один на один с бывшей немецкой охраной. Немецкие солдаты и офицеры сложили во внутреннем дворе оружие, но все еще пытались наводить порядок. Часов в 9 утра они прошли по баракам и сараям и прости собраться всех внизу во дворе. Там с грузовой автомашины обратился к нам через немца-переводчика полковник. Он убеждал нас не покидать лагерь, соблюдать организованность с тем, чтобы они смогли передать нас русскому командованию по спискам — как этого потребовали советские власти. В общем это было правильно и для нас было бы безопаснее. Ведь нас могли принять и за переодетых власовцев, хотя большинство не походило на здоровых солдат. Это были доходяги.
Но дорвавшиеся до свободы бывшие военнопленные уже никого не слушали и никому не подчинялись. Первое желание у оголодавших, истощенных людей было поесть, нажраться. Вскоре по всей территории лагеря запылали костры. На них в котелках варили картошку. Ее собрали по дворам у крестьян, попросту отняли. Кое-кто уже отобрал свиней, овец, птицу, тут же резали их, свежевали, варили в котелках. Нашли в деревне склады, разгромили их, добыли консервы, спиртное, и пошло… Тысячи освобожденных пленных разбрелись по деревне и отнимали у жителей не только продовольствие, но и вещи, нередко советского производства, награбленные в ходе войны у нашего народа. Я в душе не одобрял грабеж, но не мог и не собирался его остановить, да меня никто бы и не послушал. Зашел в один крестьянский двор и я с товарищами, увидел маленькую ручную тележку типа арбы с боковинами. Спросил у хозяина, не продаст ли он ее. Тот с удивлением посмотрел на меня и, разумеется, согласился. У меня было, кажется, десять марок, и я отдал их крестьянину. Плен и пережитые невзгоды не выбили из меня окончательно ифлийско-комсомольского воспитания. Впрочем, тележка мне не понадобилась и я в тот же день отдал ее кому-то.