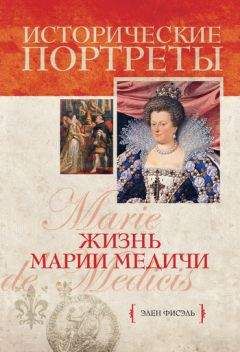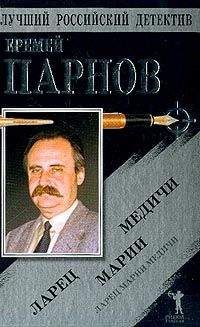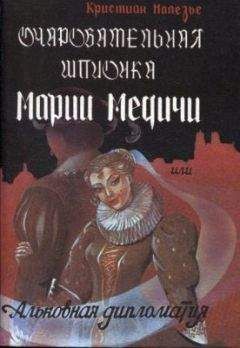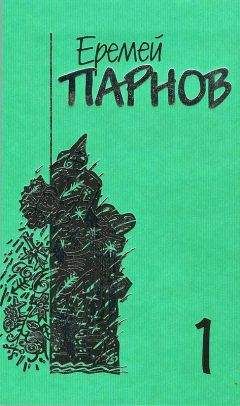Елена Рачева - 58-я. Неизъятое
Один из оперативников, поняв, что я их чуть не провел, изо всей силы ручкой нагана бьет меня в ухо (я потом плохо слышал месяца два). Говорят:
— Никольский сказал, ты винтовку на острове оставил.
Оказывается, из стога Леня выпал, и какая-то группа на него набрела.
— Сейчас солдат с тобой за винтовкой пойдет.
И я понимаю: все, меня убьют.
Конвоиры взбешены! Пока мы шли, один, самый злой, прикладом бил меня в спину и приговаривал: «Придем — из этой же винтовки тебя застрелю». Так бы они и сделали! Написали бы потом акт: застрелен при попытке бежать. И все. Сбежавших ловили, убивали, трупы клали возле вахты. Я дважды видел: голые, собаками покусанные, с выколотыми глазами.
Со мной было бы то же, но тут случилось просто божье чудо. Подошли к лодкам, слышу: «А вы куда?» — явно с акцентом.
— Вот, суку поймали, на острове винтовку спрятал.
— Я с вами.
Оглядываюсь — там еще один отряд, старшина и три-четыре солдатика. Старшина садится в лодку, прямо напротив меня, на коленях автомат. «Вы, ребята, потише, не утопите, я человек ташкентский, плавать не умею». Они багром отталкиваются, гребут…
— Старшой, я тоже с Ташкента, — говорю. Я на самом деле там три года в эвакуации прожил. С русским это не сработало бы, а он азиат, узбек, мусульманин…
— Че ты врешь! Где жил?
— Улица Хамза.
— Хамза? Да у меня дом рядом!
Плывем, рассказываю ему про Ташкент. Как там караванами верблюды ходят, как на каждом шагу базарчики и даже в войну было изобилие еды…
Подошли к острову. Полянка, стог сена. Достаю из стога винтовку. Сцена такая: стою я, трое солдат и старшина, автоматы направлены на меня.
И тут солдат, который меня бил, подходит к старшине и шепчет что-то на ухо. Я впился в лицо старшины. А тот выслушал и отрицательно головой покачал. Не разрешил он меня убить.
Жажда воли
Избили меня, конечно, до полусмерти… Смутно помню: привозят на станцию. Комнатушка, в полусумеречном состоянии лежит Леня. Какая-то бабка с крынкой молока пытается войти, ее выгоняют. Наручников нет, нас связывают веревкой. Платформа, поезд, Тайшет. На станции снова бьют сапогами. Потом штаб. Какой-то майор: «На х… вы их привели! Их стрелять надо!»
Потом меня и Леню ведут надзиратели из тюрьмы. Леня идти не может, висит на двух конвоирах. У него то и дело спадают штаны, конвоиры кричат: «Подтяни ему штаны!» Догоняю, подтягиваю, через сто метров — снова.
И вот — Тайшетский центральный изолятор. Холод жуткий, курева нет. Следствие — месяц. Оказывается, задержали Жору и Волкова. А Игоря — нет.
* * *Жора от остальных отстал. Залез в стог, но неудачно, и когда прочесывали лес, два солдата его заметили.
А Волков с Игорем добрались до того самого состава, который довез бы до китайской границы. Навстречу попались оперативники, кричат: «Стой, кто идет?»
Игорь стреляет в одного из оперативников, они с Волковым валятся по разные стороны насыпи и уходят. Волкова через день поймали. А Игорь ушел.
* * *Через месяц привели нас четверых на суд. Пустой зал, сидят человек 10 конвоиров прямо с автоматами.
Жора, такой наивный, начинает рассказывать, как он штыком конвоира пырнул. Судья орет: «Да ты что! Вышку получить хочешь?» Жора заткнулся.
За побег давали статью 58–14 (контрреволюционный саботаж): до 25 лет срока или расстрел. Конвой, конечно, ждал, что нам дадут как минимум 25. Но судья то ли дела наши смотрел, то ли пожалел… Дал нам по 10.
* * *Конвоиров тоже посадили, дали по три года за халатность. А Игорь ушел. Когда через семь лет я вышел на волю, меня вызвали в МУР и спросили, не слыхал ли я о нем. Тогда шла волна освобождений, в КГБ пришла мать Игоря и спросила: где мой сын? А они не знают…
Что с ним стало, неизвестно. Может, ушел в Китай. А мог сломать ногу в тайге или встретиться с беглецами-урками. Но он смелый и осторожный парень, у него была винтовка и два подсумка патронов. И стрелять он умел.
* * *Жажда воли… Она есть у всех, но не все пытаются ей следовать.
Зачем было бежать? Главное — избавиться от неволи. Два дня на острове — два дня на воле.
Рабы КПСС
В мое время на Колыме такого, как при Шаламове, уже не было, стало даже легче, чем в Тайшете. Хотя на общих работах, зимой, в ледяных забоях, работая по 14–16 часов, все равно доходили за месяц. Конечно, и при нас был страшный голод. Я весь пропитан был чувством голода, зациклен на нем. Но если раньше изводили до смерти, то теперь только до доходиловки.
Курева не было никакого. Знаете, как у нас курили? Получишь в посылке махорку, закуришь в бараке — обязательно к тебе подойдут человек пять. Стоят, ждут, чтобы дал докурить. Последний брал окурок тоненькими палочками вроде спичек, когда там две-три крошки оставались от этой махры. Было даже выражение: «Дай губы обжечь».
Блатных было немного. Попадали они к нам двумя путями: или за побег, получив 58–14 (контрреволюционный саботаж. — Авт.), или убив надзирателя и получив 58 — 8 (террористический акт против советской власти. — Авт.). Если не расстреляют, попадешь в политический лагерь, где безопасно и можно не работать. И они придумали татуировать на лбу «Раб КПСС». Вначале это проходило: татуировку вытравляли, блатных сажали на политзону. Потом с Лубянки пришел приказ это прекратить: уж слишком прямо, в самое нутро проблемы попадала надпись. Одного-двух блатных расстреляли, и колоть «Раба» перестали.
Виктор Красин после возвращения с Колымы. 1955
Лагерные начальники жили как бояре, у них всегда была прислуга из заключенных. Знакомый парень рассказывал, как его взяли укладывать печку в дом лагерного начальника. Жены начальства, совершенно его не стесняясь, обсуждали при нем, как они спят со своими мужьями. Это почти Рим, где патрицианки купались при рабах, потому что не считали их за людей.
«Тиран подох!»
Про смерть Сталина я узнал от вольняшки.
Вольнонаемные ехали на Колыму, как мы говорили, «за длинным рублем и коротким сроком». Молодые ребята, получали они очень хорошие деньги, и два раза в месяц начинался пропой, драки, поножовщина и все прочее, после чего многие к нам же и садились.
И вот однажды я обратил внимание, что Семен Щутинский, мой приятель, вольняшка, который сам отсидел 10 лет по 58-й, ходит с потерянным совершенно лицом. Спрашиваю: «Война, что ли, началась?» Молчит, жмется. А из кармана газета торчит. Подбегаю, выхватываю, а там в траурной рамке Сталин. Я как помчался по цеху: «Подох! Тиран подох!»