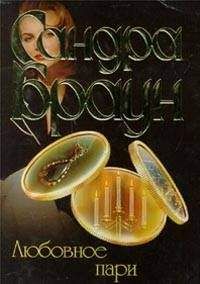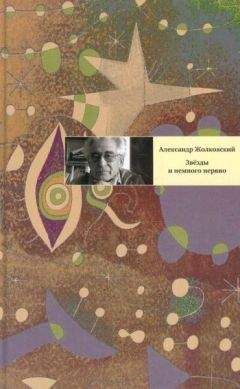Александр Жолковский - Звезды и немного нервно
Долежел принял во мне горячее участие. Один доклад я прочел, естественно, y него на кафедре, но фонды у славистов были, как водится, ограниченные, и он устроил мне еще и публичную лекцию, вне славяно-структурно-семиотического гетто, с солидным гонораром, до сих пор помню, в 500 долларов, правда, канадских.
Лекция состоялась в красивейшем готическом Тринити Колледж, в огромном, с высокими потолками зале на несколько сот мест, которые оказались заполнены. Для таких случаев у меня имелась работа о каламбуре Бертрана Рассела Many people would sooner die than think. In fact, they do («Многие люди скорее умрут, чем станут думать. Собственно, так они и делают»). Доклад, возможно, благодаря щедро приводившимся остротам Рассела и других авторов, публике понравился. В прениях на сцену поднялся самый знаменитый канадец русского происхождения George Ignatieff, одно время представитель Канады в ООН (член разветвленного клана Игнатьевых, среди которых был и царский, а потом советский, генерал, автор книги «Пятьдесят лет в строю»). Дипломат не посрамил своей репутации и произнес небольшое похвальное слово — несомненный шедевр жанра. Он сказал, что из всех собравшихся он, по-видимому, единственный имел честь слушать как профессора Жолковского, так и профессора Рассела (кстати, учившегося, а потом преподававшего в Кэмбридже тоже в Тринити Колледж), и рад засвидетельствовать адекватность разбора, основанную на сходном складе ума этих двух ученых. О скандалах, сопровождавших пребывание Рассела в Америке (1938–1944), он дипломатично умолчал.
Хотя в докладе пацифистский имидж философа деконструировался — выявлялась убийственная, в буквальном смысле слова, подоплека его рационализма, Рассела я люблю. Его «История западной философии» стала моей настольной книгой еще в те времена, когда мы читали ее под полусекретным грифом Для научных библиотек. В его эссе «О скрытых мотивах философии» я вижу блестящий образец тогда никому еще не ведомой деконструкции. А из его автобиографии не могу забыть фразу, венчающую описание первого научного успеха. Молодому Расселу вдруг приходит приглашение выступить на заседании Французского математического общества; он счастлив, едет в Париж, прибывает в указанное место и обнаруживает, что это небольшая комната, где вокруг стола сидят человек десять. «Observing their noses, I realized they were all Jews» («Oбозрев их носы, я понял, что все они были евреи»). Из-за железного занавеса отличия французских носов от семитских виделись нам не столь отчетливо (имел хождение даже эвфемизм «французы»), но для Рассела это был явно не бином Ньютона.
В мою честь устраивались приемы. После университетского доклада — у Долежела, дом которого поразил меня своей роскошью; после публичной лекции — в ресторане, где я основательно напился. А как-то днем коллеги повели меня в модное кафе, и я не мог отделаться от странного ощущения, что место мне знакомо, пока не сообразил, что на гигантской фотографии во всю стену напротив (новаторская тогда техника оформления интерьеров) был воспроизведен кусок улицы Нюхавн в Копенгагене, на которой я останавливался за год до этого.
Моим последним днем в Торонто была суббота, когда докладов не бывает, но заботливый Долежел спланировал мой визит таким образом, что как раз на эту субботу приходилось ежемесячное утреннее заседание возглавляемого им Торонтского семиотического кружка, готового оплатить мое выступление в скромном размере, не помню, пятидесяти, а может, и двадцати пяти канадских долларов. Я признался Долежелу, что третьего доклада у меня с собой нет, но он успокоил меня, сказав, что достаточно просто рассказать о трудах и днях советских семиотиков. По эмигрантскому безденежью, из благодарности к Долежелу и ради вящей славы московско-тартуской школы, я согласился.
Выступление состоялось в одной из небольших аудиторий по-субботнему пустого здания, перед пятью-шестью слушателями. Долежел пышно представил меня, после чего я набросал, как мог, творческие портреты Лотмана, Иванова, Топорова и K°. Когда я позвонил домой в Итаку и сообщил про незапланированную лекцию, Таня спросила, о чем же я говорил. «Об усах Лотмана», — сказал я. В дальнейшем этот жанр так у нас и назывался. Кстати, усы у Лотмана были нееврейские — какие-то казацкие.
Заметки феноменолога
В мою краткую бытность профессором и завкафедрой в Корнелле (1980–1983) мне довелось познакомиться с Полем де Маном. Он был в зените славы и в Корнелл приехал прочесть интенсивный, престижный и высокооплачиваемый курс публичных лекций (Меssenger Lectures) по эстетике. Лекции читались во второй половине дня, длились, вопреки американским традициям, по три часа и более, не считая вопросов и ответов, и собирали огромную аудиторию — до ста и более студентов, аспирантов и профессоров, в основном, конечно, гуманитариев.
Мне, с моими структурными установками и советскими пробелами в образовании, было трудновато следить за ходом его рассуждений. Я добросовестно слушал и, как мог, осмысливал услышанное. (Помогал роднящий деконструкцию со структурализмом скепсис по поводу любых идеологий, так же поддающихся формальному исчислению, как и риторический репертуар литературы.) К концу второй лекции я даже наскреб некоторое количество недоумений, которого могло бы хватить на каверзный вопрос, но вылезать с этим на публику не решился, боясь попасть впросак с произнесением фамилии Канта. После лекции я спросил Джорджа Гибиана, как он, для которого английский язык тоже не родной, обеспечивает фонетическое противопоставление Каnt/сunt («Кант/пизда»). Он ответил: «I dоn’t. I rub their noses right intо it» («А никак. Я прямо сую их туда носом»).
В следующий раз я все-таки собрался с духом и заветный вопрос задал. Ни своего вопроса, ни полученного ответа я не помню, но никогда не забуду формата, в котором была выдержана ответная реплика де Мана.
— Так, — сказал он, выслушав меня. — Вы… феноменолог. Следовательно, ответ должен выглядеть следующим образом…
Надо сказать, что, аттестовав меня как феноменолога, де Ман завысил мою скромную философскую квалификацию (правда, не без оснований — ввиду нашего со Щегловым упора на инварианты поэтических миров), и я некоторое время ходил гордый производством в следующий гуманитарный чин.
Так или иначе, шпаги были скрещены, знакомство состоялось. Оно продолжилось, когда благодаря моим связям с корнелльскими постструктуралистами (Джонатаном Каллером, Филом Льюисом, Ричардом Клайном), под чьей эгидой проходил визит де Мана, я общнулся с ним еще раз. Он посетил меня в моем огромном кабинете, и мы около часа беседовали о проблемах как литературной теории, так и аккультурации иностранных гуманитариев в Штатах (де Ман — бельгиец).