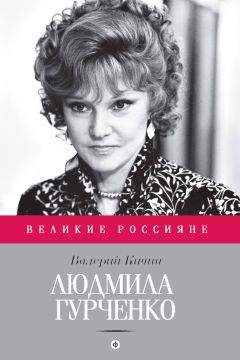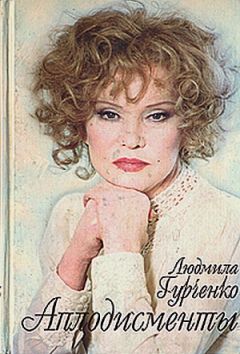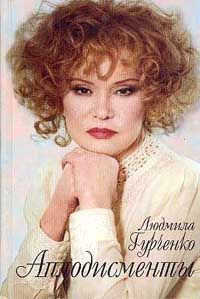Валерий Кичин - Людмила Гурченко
Эта оттепель души, как мы увидим из ее последующих ролей, станет постоянной темой актрисы, пройдет через судьбы ее послевоенных и совсем уже современных героинь. В героинях же военных приметы такой оттепели Гурченко, верная своей музыкальной природе, искала нередко — в песнях, в минутах, когда через пение изливается самое сокровенное. Песни эти фронтовые постоянно будоражили ее воображение, она ощущала какой-то смутный долг перед ними. Ведь они были ей дороже всех любимых мелодий мира — за ними стояла память. Но она их еще не спела по-настоящему, и память, не находя выхода, ворочалась и болела.
Гурченко, как никто, знала: песня — кратчайший путь к сердцам. Тут люди раскрываются, добреют душой, через песню познаются друзья. Так она воспринимает мир.
«В фильме «Песни войны», — говорила она потом, — я, если можно так сказать, спела все то, что не досказала в своей книге, выплеснула всю ностальгию по детству… Спела я песни войны так, как слышала их когда-то, как пел их в те годы народ и как пела я сама, на улицах, в вагонах, в госпиталях…»[60]
Этот видеофильм начинался кадрами кинохроники военных лет. Не батальные кадры — скорее, бытовые. Не столько поле боя, сколько окопная жизнь. Партизанские землянки. Усталые лица. Небритые щеки. Письма из дома. «Тесная печурка», где «бьется огонь». Трудная работа войны.
А за кадром кто-то перебирал лады на гармони. Нащупывал ускользающую мелодию. Начинал снова и снова. Как будто разминал пальцы, отвыкшие от фронтовой гармошки, как будто пытался вспомнить полузабытое.
Режиссер Евгений Гинзбург, всегда точно чувствующий жанр передачи, и на этот раз принял и поддержал предложенный актрисой настрой: воспоминание. Возрождение воспоминаний — вот драматургия видеофильма. Сначала обрывки каких-то мелодий, какие-то аксессуары быта. Потом мы все глубже погружаемся в этот ушедший от нас мир военных лет, и тогда песни зазвучат в полный голос, все увлеченней, все стремительней.
Это не спектакль и не концерт. В нем нет костюмов, нет попыток что-то воспроизвести средствами театра. Перед нами жанр, возможный только на телевидении. Актриса не «выступает». Она пришла к нам в гости — к друзьям, современникам, единомышленникам. Талантливый человек. Пришла чуть торжественная, в вечернем платье — ведь у нас не будничный вечер, у нас вечер воспоминаний. Села. И тоже стала осторожно пробовать мелодию. Поет по-домашнему просто, безыскусно, без эффектов и концертных приемов. Обычно столь щедрая на пластику, Гурченко теперь предельно аскетична. Аскетично и оформление: пустая комната, стул, актриса. Иногда в досках пола нам чудится фронтовая сцена-времянка. Иногда в кадр попадет перечеркнутое бумажными крестами окно, кирпичная кладка с размашистой надписью краской: «Мин не обнаружено. Веселов». Вот черная тарелка репродуктора. А вот, на стене, фотография отца, Марка Гавриловича Гурченко. Передача действительно продолжала книгу, была к ней «звуковым приложением» — это длились воспоминания, но обретали теперь плоть.
В кадре почти нет движения, только камера иногда меняет точку зрения, приближает к нам лицо. Редко-редко — взгляд, словно устремленный куда-то в память, в прошлое. Редко-редко — взгляд прямо в объектив, нам в глаза — певица будто хочет удостовериться, что мы — с ней, что тоже погружены в музыку, в память. Взгляд этот нас сближает, в нем есть что-то незащищенно личное. Он говорит нам: то, что вы слышите, — больше чем песня. Это пройденная нами жизнь. Не песни важны, а то, что с ними связано.
Первые переборы гармошки пробудили нашу память, первые мелодии проторили ей дорогу, и теперь воспоминания уже теснятся, идут лавиной, и, не закончив одну мелодию, мы переходим к другой: и это было, и это — помните? «Казак уходил, уходил на войну, казачка его провожала… Я уходил тогда в поход, в далекие края, платком взмахнула у ворот моя любимая… Ты все та же, моя нежная, в этом синем платьице… Прощайте, скалистые горы, на подвиг Отчизна зовет… Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои…»
Огромная жизнь страны проходила в этих оборванных временем мелодиях. И возникло тогда почти физическое ощущение, что прошлое обступило со всех сторон. Сидят друзья, вспоминают, перебивают один другого, уже вошли в азарт.
Как много было всего — трагического и бесшабашного, грустного и веселого, как много было потерь, как много пота, как много человеческого братства…
После передачи шли письма, и в них подчас высказывалось сожаление о том, что песни не допевались до конца, что обрывались, теснили друг друга, что не было «исполнения» в привычном понимании этого слова. Что был не «концерт». Обычный или театрализованный, как умеют делать на телевидении: с «печуркой», со «свечи огарочком», с «синим платочком» на плечах. Телевидение уже успело приучить к торжественности этого понятия — концерт, к незыблемости стереотипа исполнения таких песен: они звучали всегда по случаю памятных дат и давно уже существовали как бы вне быта, над бытом…
Гурченко вернула их в быт, и сам этот военный быт через песню — вернула на экран нашего воображения. С войной у каждого связано личное — передача давала драгоценную возможность каждому настроиться на свое, острее ощутить свою кровную связь с общим, с тем, что принадлежит каждому в отдельности — и всем сразу, всему народу. В одном из интервью Гурченко специально подчеркивала эту особенность замысла: «Это действует даже сильней, когда не буквалистское восприятие, а у каждого свой «воздух воспоминаний». У одного — платочек, подаренный невестой, у другого — память о Шульженко, приехавшей на фронт, третий поддерживал себя этой песней в окопах. А у меня — знаете что? «Синенький скромный платочек дали мне немцы стирать, а за работу — хлеба кусочек и котелок облизать». Так пели в оккупации, такие у меня ассоциации с «платочком». Одна женщина, бывшая узником концлагеря, спела мне на мотив танго «Брызги шампанского»: «Новый год, порядки новые, колючей проволокой наш лагерь огражден. На нас глядят глаза, глаза суровые, и — дуло в спину…» Страшно невозможно… А помнить надо.
А вообще принцип отбора был очень личностный, по эмоциональному признаку… Я спела почти все песни, которые пела в детстве, которые папа присылал с фронта в письмах. Моя мама вела ансамбль в ремесленном училище, и папа писал: «Ляля, высылаю тебе эту песню, она на фронте имеет первоклассный успех.»[61]
Из рассказа Владимира Давиденко, аранжировщика песен (о нем Гурченко сказала: «Володе 26 лет, но — фантастическая вещь: память о войне, которой он не знал, у него такая же нескончаемая, как у меня»):