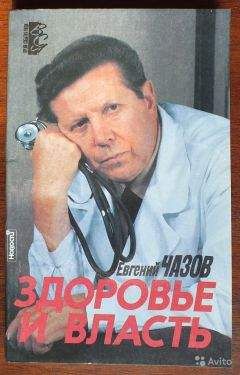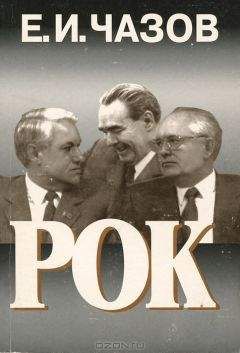Евгений Чазов - Здоровье и Власть. Воспоминания «кремлевского врача».
У меня было желание ответить резкостью: «А что сделали вы для народа в тот период? Что же тогда вы молчали, когда царил «застой» и творились безобразия?» Но тогда я уподобился бы этим депутатам, нажившим дешевый авторитет популистскими лозунгами, ровно ничего не давшими своему народу.
Самый лучший ответ — это то, что ты оставил людям. Не популистские лозунги, которые не выполняются, а это, например, созданный под моим руководством кардиологический центр и большая сеть лечебных и санаторных учреждений, это опубликованные мной монографии и сотни научных публикаций, предложенные новые методы диагностики и лечения.
Я вспомнил свои письма Брежневу, а потом и Черненко, в которых без прикрас описывал плачевное состояние советского здравоохранения, его плохую материально-техническую базу, нищенскую зарплату врачей. И надо сказать, что именно Черненко добился от Брежнева специальных решений, направленных на улучшение системы охраны здоровья. Кое-что было сделано, но большинство из моих предложений из-за позиции Госплана и Министерства финансов так и осталось на бумаге. Другая ситуация, когда я обращался к Черненко, была связана с проектом строительства крупной атомной электростанции в живописном районе России — Жигулях, на Волге, недалеко от Самары.
Сейчас, в период гласности, у нас много «смелых» людей, выступающих и к месту, и не к месту против промышленного строительства в тех или иных районах, особенно объектов химической и атомной промышленности. Десять лет назад их не было слышно. За кулисами уже почти был утвержден проект строительства в Жигулях мощной атомной электростанции, который в ходе строительства привел бы к уничтожению этой жемчужины России. К своей чести, первый секретарь обкома КПСС Е. Ф. Муравьев поднял голос против ее строительства. Я хорошо знал те места, там мы построили прекрасный реабилитационный центр. Да и не мог я, русский, мириться с уничтожением реликвии России. К моему удивлению, обращения к Суслову, который был депутатом от тех мест, Устинову, Андропову, я уж не говорю о работниках Совета Министров СССР и Госплана, не помогали. Тогда я завел с Брежневым разговор о том, что строительство атомной электростанции в Жигулях — преступление, но он в ответ буркнул что-то нечленораздельное, что означало — отстань от меня. Между тем, узнав о моей активности, на меня обрушились некоторые мои коллеги из Академии наук СССР, работники Госплана, Министерства электрификации. Я решил посоветоваться и просить помощи у Черненко. Он охотно откликнулся на мою просьбу. Не знаю деталей закулисной борьбы, но в конце концов было принято решение не строить в этом районе атомной электростанции.
Были и другие, может быть, и не такие масштабные вопросы, в решении которых проявилась честность и доброта Черненко.
В ноябре 1978 года Черненко становится членом Политбюро. Брежнев, конечно, с подачи Андропова, продолжал укреплять свои позиции. В 1976 году министром обороны назначается его ближайший друг Устинов, который вскоре тоже вошел в состав Политбюро. Наконец, в ноябре 1979 года членом Политбюро избирается Тихонов. Теперь Брежнев мог жить спокойно, не опасаясь за свое положение в партии и государстве.
Складывающаяся ситуация, как это ни парадоксально, способствовала прогрессированию болезни Брежнева. Уверовав в свою непогрешимость и незаменимость, окруженный толпой подхалимов, увидев, что дела идут и без его прямого вмешательства, и не встречая не только сопротивления, но и видимости критики, он переложил на плечи своих помощников по Политбюро ведение дел, полностью отмахнулся от наших рекомендаций и стал жить своей странной жизнью. Жизнью, которая складывалась из 10—12 часов сна, редких приемов делегаций, коротких, по 2 часа, заседаний Политбюро один раз в неделю, поездок на любимый хоккей, присутствия на официальных заседаниях. Я не помню, чтобы я застал его за чтением книги или какого-нибудь «толстого» журнала. Из прошлого режима он сохранил лишь привычку по утрам плавать в бассейне да выезжать в Завидово на охоту. Вновь, как и раньше, при малейшем психоэмоциональном напряжении, а иногда и без него, он начинал употреблять успокаивающие средства, которые доставал из разных источников. Они способствовали прогрессированию процессов старения, изменениям центральной нервной системы, ограничению его активности. Понимая, что Брежнев уже недееспособен, во время одной из наших встреч я сказал Андропову, что вынужден информировать Политбюро о его состоянии, ибо не могу взять на себя ответственность за будущее Брежнева и партии. К удивлению, в отличие от прошлого, Андропов со мной согласился, попросив только «не сгущать краски». Видимо, настолько изменилась политическая ситуация и обстановка в Политбюро, что Андропов уже не боялся за положение Брежнева, а значит, и за свое будущее.
Трудно вспомнить сегодня, сколько официальных информации о состоянии здоровья Брежнева мы направили в Политбюро за последние 6—7 лет его жизни. Возможно, они еще хранятся в каких-то архивах. Однако спокойствие Андропова было обоснованным — ни по одному письму не было не то что ответной реакции, но никто из членов Политбюро не проявил даже минимального интереса к этим сведениям. Скрывать немощь Генерального секретаря стало уже невозможным. Но все делали «хорошую мину при плохой игре», делая вид, как будто бы ничего с Брежневым не происходит, что он полон сил и активно работает.
Взять хотя бы случай, который Э. Герек описал в своих «Воспоминаниях», — выступление Брежнева в октябре 1979 года на праздновании 30-летия ГДР. Он памятен для меня по целому ряду обстоятельств. В начале октября, когда Брежнев должен был выехать в ГДР во главе делегации, проходил Всесоюзный съезд кардиологов, на котором предполагалось избрать меня председателем правления (президентом) этого общества. Мы заранее договорились с Брежневым, что, в связи с моим участием в работе съезда, я не поеду в Берлин. Однако за три дня до отъезда он впал в состояние такой астении, что почти не вставал с постели, и сама поездка стала проблематичной. Нам стоило больших трудов активизировать его. Андропов, учитывая сложившуюся ситуацию, попросил меня оставить съезд, на котором я уже председательствовал, и выехать в Берлин.
Первое испытание для нас выпало в первый же день, когда Брежнев должен был выступить с докладом на утреннем заседании, посвященном 30-летию ГДР. Для того чтобы успокоиться и уснуть, он вечером, накануне выступления, не оценив своей астении, принял какое-то снотворное, которое предложил ему кто-то из услужливых друзей. Оно оказалось для него настолько сильным, что, проснувшись утром, он не мог встать. Когда я пришел к нему, он, испуганный, сказал только одно: «Евгений, я не могу ходить, ноги не двигаются». До его доклада оставался всего час. Мы делали все, чтобы восстановить его активность, но эффекта не было. Кавалькада машин уже выстроилась у резиденции, где мы жили. Громыко и другие члены делегации вышли на улицу и нервничали, боясь опоздать на заседание. Мы же ничего не могли сделать — не помогали ни лекарственные стимуляторы, ни массаж.