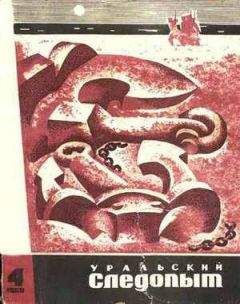Нестор Махно - Воспоминания
Глава XII
В пути от Астрахани до Москвы
Против течения пароход шел не так быстро, как я представлял себе. До Саратова путь далекий, и это дало мне возможность наедине сосредоточиться и подумать о том, куда я еду и зачем.
Куда я еду – это было просто и понятно. Я еду до Саратова пароходом, а там сяду в поезд и отъеду в Москву. В центре бумажной революции я увижусь, с кем пожелаю; поговорю, о чем захочу, и направлюсь на Украину. Так мы ведь решили на таганрогской конференции!.. Кажется, тоже все просто и понятно. Однако я о чем-то тревожился. Что-то нагоняло на меня какую-то навязчивую боязнь ответственности перед тем, что предстоит мне с рядом товарищей начать на Украине в связи с борьбой не на жизнь, а на смерть со всеми явными и тайными силами контрреволюции. И вот я еще раз пересмотрел газеты с сообщениями о деяниях немцев и гетманщины на Украине; еще раз продумал ту цель, во имя которой я и многие мои близкие, дорогие друзья и товарищи по группе должны быть к первым числам июля на Украине. Во всем, что я продумывал, я сознавал замысел великого дела, в особенности если мы начнем его удачно, если разовьем и предохраним его от искажений, которые могут найти себе место в нем хотя бы уже потому, что мы растворимся в массе тружеников, сбросим белые перчатки с рук и слащавую идеализацию с уст и поведем за собой в бой против контрреволюции широкие массы, действие которых встретит жестокое противодействие со стороны наших врагов, врагов подлинной революции, а это обстоятельство придаст нашей борьбе всеразрушающий, всеуничтожающий на пути противодействия характер. В этой жестокой борьбе моральные стороны преследуемой нами цели неизбежно будут уродоваться и будут такими уродливыми казаться всем до тех пор, пока связанное с этой целью намечаемое нами дело борьбы не будет признано всем населением своим делом и не начнет развиваться и охраняться непосредственно им самим… Да, да, все это так… «Но правилен ли подход к этому делу?» – задавал я себе вопрос. Можно ли посредством отдельных групповых выступлений против помещиков, немецко-австрийского и гетманского командования и устанавливающихся под военной охраной учреждений поднять на борьбу широкие трудовые массы? Ведь прошло уже больше месяца с тех пор, как над украинскими тружениками села и города царит деспотия упомянутых палачей. Неизвестно, какие психологические изменения произошли в среде тружеников за это время. Ведь может случиться, что они убаюканы (если не застращаны казнями) этими палачами так, что перестали и думать о своем позорном положении… Может случиться, что весь бунтовской дух украинских тружеников под давлением жестоких казней пал; что его заменил дух уныния, дух рабства, сковывающий вольную мысль дерзания на лучшее… Все это может быть, рассуждал я сам с собою, в своей одинокой тихой каюте…
Но когда я это «может быть» отбрасывал в сторону и ставил себе вопрос, мог ли бы я лично примириться с тем, что сейчас воцарилось на Украине, с тем, что совершается над ее трудовым населением, именно я, вышедший из недр этого населения, знавший его рабскую жизнь и то, как оно, наполовину свергнув гнет опутавшего его экономического и политического рабства и ощутив на этом пути свободу, стремилось воспринять для своей жизни новые идеи, разобраться в их содержании и, вступая на путь строения новых форм социально-общественной жизни, вооружало ее новыми порядками, новым правом, которое обеспечивало бы свободу и социальную справедливость одинаково за каждым человеком, – когда я ставил себе этот вопрос, тогда мое допущение, что, может быть, украинские труженики психологически изменились под давлением казней и утеряли свой бунтовской дух, свою готовность к новой, более цельной борьбе за свое освобождение, быстро теряло значение для моей оценки положения на Украине. В моей непримиримости с тем, чтобы на Украине надолго воцарились корона гетмана и немецкое юнкерство, я чувствовал и видел непримиримость украинских революционных крестьян, на которых единственно была надежда, что они способны пережить всю деспотию гетманщины на себе, но не помириться с нею. Наоборот, при первом удобном случае, они восстанут против нее и, не щадя себя, постараются уничтожить как ее самое, так и те черные силы, которые способствовали ее приходу к власти над страной.
Эта моя глубокая вера в украинское революционное крестьянство заслоняла для меня все те явления, которые на Украине развивались в это время на пользу гетманщины и которые, не имей я в себе веры в крестьянство, могли бы поколебать меня в моих планах возвращения нашей анархической группы на Украину и организации крестьянского восстания. С помощью этой веры в крестьянство я сумел критически отнестись к тем явлениям, какие наблюдал месяц-полтора тому назад на Украине, какие видел в пути по России и какие предполагал снова увидеть в недалеком будущем на Украине. И так как это недалекое будущее представлялось мне отстоящим всего на один месяц, то я к нему готовился, заранее радуясь той свободе, которую, по-моему, украинское революционное крестьянство должно было в будущем, намечаемом нами восстании завоевать себе.
* * *Пароход подходил к Царицынской пристани. Зная, что он здесь пристанет, я подумал: а может быть, заехать на день-два к своим коммунарам, к подруге, которая, вероятно, уже родила мне сына или дочь?.. Повидаться со всеми ними… Обнять, поцеловать дитя… И тут же вспомнил, что ведь Москва должна была взять у меня недели две, так как в центре бумажной революции я лелеял мысль встретить многих и разного направления революционеров… Я принужден был отказать себе в счастье увидеть своих родных, дорогих, близких. Я ограничился тем, что написал им несколько теплых приветственных слов на открытке и опустил ее в почтовый ящик.
На Царицынской пристани я купил свежие газеты. Они были полны сведений об Украине, о разгуле по ее городам и деревням экспедиционных карательных отрядов из немецко-австрийских оккупационных контрреволюционных армий и из армий «державной варты» гетмана. Все эти сведения об Украине переплетались со сведениями о боях Красной Армии с чехословаками, прорывавшимися через Центральную Россию в Сибирь, где в то время нашла себе широкий плацдарм контрреволюция адмирала Колчака и возлагавших на него большие надежды, а потому облепивших его социалистов-учредиловцев.
Все эти сведения, вместе взятые, наводили на меня грусть, сменявшуюся подчас боязнью то за окончательную гибель революции и всех ее завоеваний, то за то, что мне не удастся пробраться к назначенному времени на Украину, или если и удастся, то вряд ли я что успею сделать в области организации новой, более мощной по характеру и по вооружению социальными средствами действия крестьянской революционно-боевой силы. Эта боязнь за то и за другое иногда овладевала мною настолько сильно, что бывали часы, когда я не мог говорить ни с кем из пассажиров даже о необходимом и не отвечал, когда кто-либо из них меня о чем-нибудь спрашивал.