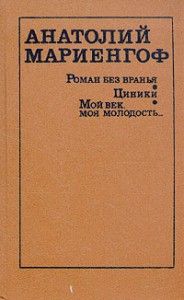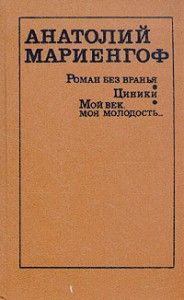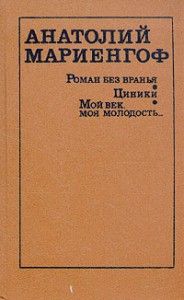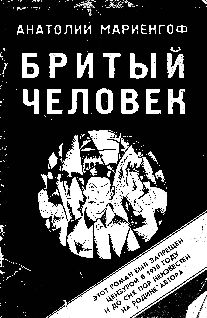Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
На месте не сидел — сразу, с деревенской наглецой и великим самомнением, шагнул в мир литературный.
Была в те годы группа «Смена» под руководством Виссариона Саянова (молодого ещё, но уже относительно известного 23-летнего поэта, автора одной книжки стихов). Корнилов двинул туда.
В 1924-м «Смена» была литобъединением, а в 1926 году стала литературной группой.
Заседали каждый вторник — сначала на Мойке, в Юсуповском дворце, где располагался Домпросвет, следом на Фонтанке — в Доме печати.
В группу входили поэты и прозаики Дмитрий Левоневский, Борис Лихарёв, Леонид Рахманов, Геннадий Гор… И молодая красавица, почти ещё девочка — Ольга Берггольц, прехорошенькая, с длинной густою косой и с характером. Ей ещё не было шестнадцати лет. Гена Гор за ней трогательно ухаживал.
Берггольц вспоминала про «Смену»: «…приходила разная рабочая молодёжь: ребята и девчата с предприятий, порой едва владеющие правописанием, но слагающие стихи; были журналисты, студенты, многие — комсомольцы, одетые с тогдашней естественно-аскетической простотой — в юнгштурмовках, в косоворотках, в толстовках…»
И дальше: «Все очень молодые и все — прямолинейно беспощадные друг к другу, потому что были беззаветно, бесстрашно, я бы сказала — яростно влюблены в поэзию, и прежде всего в советскую, в современную нам поэзию… Да, много у нас тогда было лишнего — был и догматизм, и чрезмерная прямолинейность, и ошибочные увлечения (акмеистами, например) — я не хочу идеализировать даже любимую молодость нашу, но не было одного: равнодушия».
Ольга была на три года моложе Корнилова, с 1910-го, майская (родилась 3-го числа) — дочь фабричного врача Фёдора Христофоровича Берггольца и Марии Тимофеевны Грустилиной, детство провела в рабочем районе Петрограда, в Гражданскую мать увезла Олю и её сестрёнку в Углич, они жили в келье Богоявленского монастыря, семья была воцерковлённой.
После трёхлетнего фронтового отсутствия вернулся отец, забрал семью обратно в Питер. Вчерашняя богомольная, ангелоподобная девочка становится пионеркой; публиковаться начинает, как и Боря, в стенгазете; первое известное стихотворение (1924 года) называется «Ленин». Первая серьёзная публикация — в газете «Ленинские искры» за 1 мая 1925 года — стихотворение «Песня о знамени».
В «Смену» пришла, ещё будучи школьницей.
Корнилова увидела на первом же чтении: «…коренастый парень с немного нависшими веками над тёмными, калмыцкого типа глазами, в распахнутом драповом пальтишке, в косоворотке… Сильно по-волжски окая, просто, не завывая, как тогда было принято, читал…»
Потом ещё вспомнит кепку, сдвинутую на затылок, — это важно, это характер и вызов.
«Он был слегка скуласт и читал с такой уверенностью в том, что он читает, что я сразу подумала “Это ОН”».
На слушаниях присутствовало сразу человек семьдесят.
Корнилов начал со стихов, казавшихся ему самыми лучшими. Был уверен в своей силе, думал: все ахнут.
Усталость тихая, вечерняя
Зовёт из гула голосов
В Нижегородскую губернию
И в синь Семёновских лесов.
Сосновый шум и смех осиновый
Опять кулигами пройдёт.
Я вечера припомню синие
И дымом пахнущий омёт.
Берёзы нежной тело белое
В руках увижу ложкаря,
И вновь непочатая, целая
Заколыхается заря.
Здесь всё своё, родное, даже про ложкарей не забыл. Ну как?
За стихи ему попало хорошенько. Смех, говоришь, осиновый, омёт, кулиги? Есенинщина, понял?
«Были и защитники, конечно, но нападающая сторона преобладала…» — констатирует Берггольц.
До хрипоты спорили — кто главнее — Маяковский или Есенин. (Несмотря на то, что Николай Тихонов тогда уже многими был признан первым — тем более в Ленинграде, где он жил.)
Пойдёшь за Есениным — не закончишь ли, как он? — спрашивали Корнилова.
Прочитанные стихи действительно были подражательными, но ругали не за это, или не только за это. Ругали за то, что такую Россию, что описывал Корнилов, эти малолетки в косоворотках не просто не знали — знать уже не хотели.
Плохо ли это? Не совсем. В той России, которую описывал Корнилов, не хотелось жить — она уже была, — хотелось жить в новой и небывалой. Их можно понять, молодых, первое поколение, выросшее после революции.
Корнилов тогда мог подумать, что только здесь такие чудаки собрались, в «Смене», — а они будут за ним по пятам идти все последующие годы, и далеко не только молодые.
Но зато ведь тут была эта, глазастая, с косичками, острогрудая, глаз от неё не отвести.
(Хотя Таня — Таня ведь ждёт в Семёнове!)
После одного из заседаний, весной 1926-го, шагнул к Ольге, заговорил, с какой-то попытки даже рассмешил — хотя она обычно строгая, малосмешливая, разве что если вдруг нападёт настроение.
Гену, который путался под ногами, Корнилов отвадил: «Иди, как там тебя, покури, мне надо сказать тут… Не куришь? Ну, так постой. Иди, говорю, там про твои сочинения говорят вроде».
И Ольга за Гену не заступилась.
Боря попробовал поцеловать её в губы — а она оттолкнула его. Взял за руку — а руку не отняла.
Так и стали, как тогда это называлось, «ходить». Один — наглый юнец, кепка на затылке, другая — почти ребёнок.
Но на людях не показывали, дружили в сторонке, не на глазах, таились.
(В дневнике потом Берггольц опишет: «Борис ревновал меня, целовал и наваливался, и мне было очень страшно и стыдно от его большого, тяжёлого и горячего тела. Я была маленькая ещё…»)
Ухаживание длилось год! Советская девушка — к тому же воспитанная в монастырской келье.
В 1927 году «Смену» пополняют поэты Илья Авраменко и Александр Гитович. Туда заезжает в гости Эдуард Багрицкий — как и Корнилов, тот готовит к выходу всего лишь первую книгу, но в отличие от Корнилова — он состоявшийся, великого дара поэт. Заходит Яков Шведов, будущий автор «Орлёнка» и «Смуглянки-молдаванки».
И все на неё заглядываются, на Ольгу.
Корнилов — не все.
Он настаивает: будешь моей, со мной.
Наконец, весной 1927-го, говорит: да. Буду. Твоя. Скоро.
Летом Корнилов едет навестить родителей, привозит ворох газет со своими стихами, хвалится, что готовит книжку… и вновь встречается с Татьяной, и в июле говорит ей, клянётся ей, что любит её. А она варит варенье, и убирает прядь с глаз локтем, и смеётся, и плачет — потому что не верит. И руки сладкие у неё. И её поцеловать — можно.
Ему 20, а ей 21, и она уже не может дожидаться его.
И правильно делает — Боря возвращается в свой стылый Ленинград, и там у него снова Ольга, и он наконец добивается её.