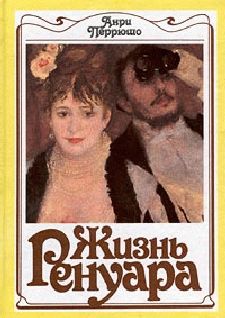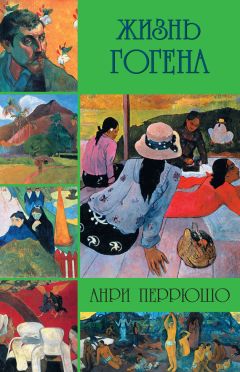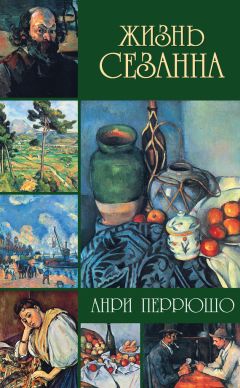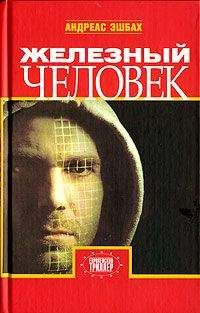Анри Перрюшо - Жизнь Ренуара
«Я услышал шум шагов, заглушенный толстым ковром. Это был маэстро в бархатном костюме с большими манжетами из черного атласа. Он был очень красив и очень любезен, протянул мне руку, усадил меня в кресло, и тут начался нелепейший разговор, перемежавшийся бесконечными „о!“ и „а!“, на смеси французского с немецким и с гортанными окончаниями. „Я ошень доволен – а! о! (гортанный звук) – ведь вы прибыли из Парижа?“ – „Нет, я прибыл из Неаполя…“ Говорили мы обо всем. Я сказал „мы“, но я только повторял „дорогой маэстро“, „конечно, дорогой маэстро“ и вставал, собираясь уйти, но он брал меня за руки и водворял обратно в кресло. Поговорили о постановке „Тангейзера“ в парижской Опере, короче, это продолжалось по меньшей мере три четверти часа… Потом поговорили об импрессионизме в музыке. Каких только глупостей я не наговорил! Под конец я весь взмок, опьянел и был красен как рак. Короче, когда застенчивый человек разойдется, его не остановишь. И однако, не знаю, чем это объяснить, но я чувствовал, что ему было со мной приятно. Он терпеть не может немецких евреев, в том числе Вольфа… Я разнес Мейербера. Словом, у меня было время наговорить вдоволь глупостей. И вдруг он заявил, обращаясь к г-ну Юковски: „Если завтра в полдень я буду себя хорошо чувствовать, я смогу попозировать вам до обеда. Придется уж вам быть снисходительным – я сделаю, что смогу, но не сердитесь на меня, если я не выдержу. Господин Ренуар, спросите господина Юковски, не возражает ли он, чтобы вы также написали мой портрет, если, конечно, это ему не помешает…“
15 января в полдень Ренуар со своими кистями стоял перед Вагнером. Сеанс и в самом деле оказался как нельзя более коротким. Вагнер уделил художнику всего тридцать пять минут. За эти тридцать пять минут Ренуар написал портрет композитора. «О! – воскликнул Вагнер, поглядев на полотно. – Я похож на протестантского пастора!»
* * *
22 января Ренуар получил на почте в Марселе пятьсот франков от Дюран-Рюэля. Еще 17 января из Неаполя он просил торговца выслать ему эти деньги до востребования, чтобы он мог добраться до Парижа. Но за это время планы Ренуара изменились. Он встретился с Сезанном, и, так как в эту пору в Провансе стояла почти весенняя погода, Ренуар решил остаться на две недели со своим другом в Эстаке неподалеку от Марселя – в «маленьком местечке вроде Аньера, только на берегу моря», объяснял он Дюран-Рюэлю.
Сезанн, у которого в Эстаке был дом, часто наезжал сюда и писал среди скалистых вершин и сосен оливковые деревья на горном кряже Нерт или бухту, которую вдали замыкали холмы Марсельвера. Художник из Экса был не слишком общительным компаньоном. Неудачи сделали его замкнутым. Но как раз в первые недели 1882 года он ждал, что вот-вот осуществится его давняя мечта и он будет выставлен в ближайшем Салоне. Знакомый Сезанна Гийеме, художник самого заурядного дарования, состоявший членом жюри, пообещал ему воспользоваться своим правом «милосердия», чтобы Сезанна допустили во Дворец промышленности. Ситуация смехотворная, почти гротескная, но Сезанн радовался ей как ребенок и поэтому принял Ренуара особенно сердечно. А вопросы, которыми оба художника задавались в этот период своего творчества, их сходные в эту пору сомнения также немало способствовали сближению вопреки всему тому, что разъединяло их и так отличало друг от друга. В сравнении с жизнью Сезанна, с этим суровым, аскетическим существованием, упорно устремленным к ледниковым высотам недосягаемого совершенства и омраченным тоской и гнетущей неуверенностью, жизнь Ренуара, даже в этот кризисный период, казалась легкой и радостной. Настоящий розовый сад. «У меня здесь все время солнце, и я могу сколько душе угодно стирать написанное и начинать сызнова… – писал Ренуар мадам Шарпантье, сообщая ей, что откладывает возвращение в Париж. – И вот я провожу время на солнце, но не для того, чтобы писать при солнечном освещении портреты, а просто греюсь и стараюсь как можно больше смотреть, надеясь таким образом достичь величия и простоты старых мастеров».
С кем, как не с Сезанном, мог Ренуар так увлеченно обсуждать то, что он увидел и узнал за время путешествия по Италии? В этом, несомненно, была одна из причин, побудивших его задержаться в Эстаке. Но была, вероятно, и другая, более затаенная, но, несомненно, более глубокая, чем первая. Не пытался ли Ренуар оттянуть ту минуту, когда он вновь встретится с Алиной и в нем с новой силой будут бороться «за» и «против»? Путешествие в Италию не разрешило его сомнений. Ренуару не удалось забыть ту, которая остановила на нем свой выбор.
Пребывание в Эстаке закончилось довольно плачевно. В первых числах февраля грипп, «жестокий» грипп, уложил художника в постель. С этой минуты «страна морских ежей», как называл ее Сезанн, потеряла в глазах Ренуара большую часть прелести, и теперь он нетерпеливо мечтал о возвращении в Париж. Но это произошло еще довольно нескоро. Грипп перешел в воспаление легких. Эдмон примчался к больному брату, возле которого с нежной заботливостью хлопотал Сезанн. «Он готов был перетащить к моей постели весь свой дом», – говорил растроганный Ренуар. 19-го доктор объявил, что больной «вне опасности», но все-таки он по-прежнему почти не принимал пищи.
А тем временем пришли письма, которые истощенный болезнью Ренуар прочел с большим раздражением. Он рвал и метал против семьи Каэн. «Что до полутора сотен франков от Каэнов, – писал он Дедону, – то позволю себе заметить, что это просто неслыханно. Худших скряг я не встречал. Решительно не стану больше иметь дела с евреями». С другой стороны, Дюран-Рюэль просил, даже настаивал – и это особенно раздосадовало Ренуара, – чтобы он принял участие в предстоящей, седьмой, выставке импрессионистов, по поводу которой ему уже писал Кайботт.
За два-три месяца до этого Кайботт, не смущенный предшествующей неудачей, вновь предпринял шаги, чтобы организовать однородную выставку, о которой так мечтал, надеясь на этот раз уговорить Дега. Но Дега только рассердился. И пришлось опять все начинать сначала, потому что Писсарро, как и за год до этого, явно не был расположен порывать с Дега. Но Гоген, разделявший точку зрения Кайботта, объявил Писсарро, что он со своей стороны откажется от участия в выставке, раз Дега не хочет уступить, и что так же, несомненно, поступит Гийомен. Таким образом, Писсарро оказался почти в полном одиночестве с Дега и его друзьями. Ему ничего не оставалось, как дать согласие Кайботту. Но Кайботт ошибался, если предполагал, что теперь все пойдет как по маслу. Спросили предварительного согласия у Моне – тот отказался. Сислей сказал, что последует примеру Моне. Ренуар сослался на то, что болен. Берта Моризо «воздержалась». Сезанн, предупрежденный Писсарро, заявил, что «у него ничего нет».