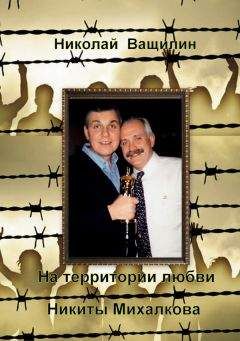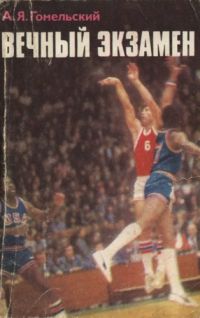Анри Труайя - Марина Цветаева
И вот – десять лет жизни как рукой сняты. Это почти что катастрофа. Меня это расставание делает моложе, десятилетний опыт снят, я вновь начинаю свою жизнь, без ответственности за другого, чувство ненужности делает меня пустой и легкой, еще меньше вешу, еще меньше есмь».[137]
Чуть позже, приехав навестить дочь в гимназии, она спрашивает в упор: «Тебе нравится?» И вот что дальше об этом пишет Ариадна:
«– Очень! – от всей души ответила я.
– И напрасно. От всего этого задохнуться можно. Все – подделка под что-то, и – под соседей. Добропорядочный трафарет. Немецкое мещанство… <…>
Да, она приглядывалась ко мне со стороны, вела счет моим словам и словечкам с чужих голосов, моим новым повадкам, всем инородностям, развязностям, вульгарностям, беглостям, пустяковостям, облепившим мой кораблик, впервые пущенный в самостоятельное плаванье. Да, я, дитя ее души, опора ее души, подлинностью своей заменявшая ей Сережу все годы его отсутствия; я, одаренная редчайшим из дарований – способностью любить ее так, как ей нужно быть любимой; я, отроду понимавшая то, что знать не положено, знавшая то, чему не была обучена, слышавшая, как трава растет и как зреют в небе звезды, угадывавшая материнскую боль у самого ее истока; я, заполнявшая свои тетради ею, – я, которою она исписывала свои… – я становилась обыкновенной девочкой».[138]
Но как ее дочь, которой было от кого унаследовать совсем другое, могла радоваться тому, что походит на других? Поведение, совершенно нормальное для одиннадцатилетнего ребенка, укрепляло Марину в мысли о том, что ее собственная судьба – особая, исключительная, способная послужить уроком, трагичная. Измучившись неясностью и дурными предчувствиями, она снова пишет Бахраху и снова открывает ему душу, без большой надежды оказаться услышанной: «Ведь я не для жизни. У меня всё – пожар! Я могу вести десять отношений (хороши „отношения“!) сразу и каждого, из глубочайшей глубины, уверять, что он – единственный. А малейшего поворота головы от себя – не терплю. Мне БОЛЬНО, понимаете? Я ободранный человек, а вы все в броне. У всех вас: искусство, общественность, дружбы, развлечения, семья, долг, у меня, на глубину, НИ-ЧЕ-ГО. Все спадает, как кожа, а под кожей – живое мясо или огонь: я, Психея. Я ни в одну форму не умещаюсь – даже в наипросторнейшую своих стихов! Не могу жить. Все не как у людей. Могу жить только во сне, в простом сне, который снится… Я не сказки рассказываю, мне снятся чудные и страшные сны, с любовью, со смертью, это моя настоящая жизнь, без случайностей, вся роковая, где все сбывается.
Что мне делать – с этим?! – в жизни. Целую – и за тридевять земель, другой отодвинулся на миллиметр – и внутри: „Не любит – устал – не мой – умереть“. О, все время: умереть, от всего!
Этого – вы ждали? И это ли вы любите, когда говорите (а м.б. и не говорили) о любви. И разве это – можно любить?»[139]
Наверное, читая это слезное послание, Бахрах задумывался. Чего Марина от него хочет, дойти – до каких пределов, когда вот так вот множит свои стенания и свои требования. Он опасался внезапного появления в Берлине поэтессы, чей пыл имел как-то однажды неосторожность поощрить. Однако 20 сентября, спустя всего десять дней после получения этих ламентаций, почтальон принес ему письмо о резком и бесповоротном разрыве. Неужели – от той же самой женщины, которая еще вчера отчаивалась из-за того, что он любит ее не так, как она того заслуживает? Неужели это она пишет сейчас заточенным, как кинжал, пером:
«Мой дорогой друг!
Соберите все свое мужество в две руки и выслушайте меня: что-то кончено.
Теперь самое тяжелое сделано, слушайте дальше.
Я люблю другого – проще, грубее и правдивее не скажешь.
Перестала ли я Вас любить? Нет. Вы не изменились и не изменилась – я. Изменилось одно: моя болевая сосредоточенность на Вас. Вы не перестали существовать для меня, я перестала существовать в Вас. Мой час с Вами кончен, остается моя вечность с Вами. О, на этом помедлите! Есть, кроме страстей, еще и просторы. В просторах сейчас моя встреча с Вами. <…>
Как это случилось? О, друг, как это случается?! Я рванулась, другой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет и которые я, может быть, в первый раз за жизнь слышу. „Связь?“ Не знаю. Я и ветром в ветвях связана. От руки – до губ – и где же предел? И есть ли предел? Земные дороги коротки. Что из этого выйдет – не знаю. Знаю: большая боль. Иду на страдание».[140]
Конечно, разрыв отношений, проделанный с такой поистине хирургической точностью и чистотой операции, принес облегчение Бахраху, который, восхищаясь поэтическим дарованием Марины Цветаевой, был просто в ужасе от самой идеи продолжать эти отношения с настолько непредсказуемым и привязчивым существом. А она, со своей стороны, гордилась тем, что успела дать отставку воздыхателю, прежде чем он оттолкнул ее. Выиграла в скорости. Спасла честь. Впрочем, идет ли речь о чести хоть в малейшей степени, если на карте – любовная страсть?
Место Бахраха занял некий Константин Родзевич. Двадцатидевятилетний бывший офицер Белой армии, затем эмигрировавший в Прагу, он стал сокурсником Сергея Эфрона по университету. Скорее всего и познакомилась-то Марина с этим любезным, серьезным, бесцветным и настолько, насколько вообще в жизни возможно, «непоэтичным» человеком именно благодаря мужу. Он был прямой противоположностью тому, что она всегда искала в мужчинах. Но какое это имело значение! Просто попался на пути в тот момент, когда Марина испытывала особенно острую необходимость в мужском присутствии рядом. И набросилась на него, как измученный жаждой на стакан свежей воды. И – как всегда – этот порыв к утолению жажды истиной вдохновил ее на новые стихи. Ей показалось, будто Родзевич – ну, точь-в-точь статуя рыцаря Брунсвика на Карловом мосту, и она посвятила ему стихотворение «Пражский рыцарь», говоря о нем как о веками «стерегущем реку» – просто реку, Влтаву, и реку дней, как о «караульном на посту разлук», веками слушающем клятвы и прощанья влюбленных. За этим стихотворением последовали и другие, их диктовала страсть Цветаевой к бывшему офицеру царской армии, товарищу по учебе ее мужа. Она возносила его на облака, она сравнивала свои горести в «Поэме Горы» с вершиной, которая прикрывает горизонт… А в «Поэме Конца» воспевала неизбежность краха каждой человеческой любви… Эти почти молитвенные обращения раскрывали ее предчувствия: того, что роман с Родзевичем будет коротким, того, что он кончится драматично. И действительно, после нескольких недель тайной связи она поняла, что идет по неверному пути, и отпустила того, который сумел воспользоваться ее телом, не затронув ее души.