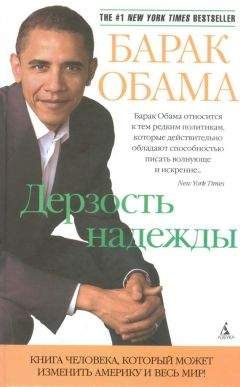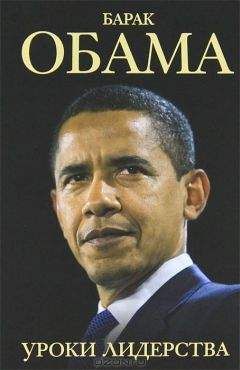Земля обетованная - Обама Барак
Если мы не сможем признать реальность друг друга, утверждал я, мы никогда не решим проблемы, с которыми столкнулась Америка. И чтобы намекнуть на то, что может означать такое признание, я включил бы историю, которую я рассказал в своей первой книге, но никогда не говорил о ней в политических выступлениях — боль и замешательство, которые я испытал в подростковом возрасте, когда Тоот выразила свой страх перед прохожим на автобусной остановке — не только потому, что он был агрессивным, но и потому, что он был черным. Это не заставило меня любить ее меньше, потому что моя бабушка была частью меня, так же как, в более косвенной форме, частью меня был преподобный Райт.
Так же, как они оба были частью американской семьи.
Завершая разговор с Фавсом, я вспомнил, как однажды встретил Тота и преподобного Райта. Это было на моей свадьбе, где преподобный Райт обнял мою мать и бабушку и сказал им, какую замечательную работу они проделали, воспитывая меня, и как они должны гордиться мной. Тут улыбнулась так, как я редко видел ее улыбку, шепнув моей матери, что пастор показался ей весьма обаятельным — хотя позже ей стало немного не по себе, когда во время церемонии преподобный Райт описал супружеские обязанности молодоженов в терминах гораздо более ярких, чем те, которые Тут когда-либо слышала в методистской церкви своего детства.
Фавс написал первый черновик, и следующие две ночи я не спал допоздна, редактируя и переписывая, закончив, наконец, в три часа ночи в день, когда я должен был его представить. В зале заседаний Национального центра конституции в Филадельфии Марти, Валери и Эрик Уитакер, а также Экс, Плауфф и Гиббс присоединились ко мне и Мишель, чтобы пожелать мне удачи.
"Как ты себя чувствуешь?" спросил Марти.
"Хорошо", — сказал я, и это было правдой. "Я думаю, если это сработает, мы пройдем через это. Если нет, мы, вероятно, проиграем. Но в любом случае, я буду говорить то, во что верю".
Это сработало. Сети транслировали речь в прямом эфире, и в течение двадцати четырех часов более миллиона человек посмотрели ее в Интернете — рекорд на тот момент. Отзывы обозревателей и редакторов по всей стране были сильными, а эффект, произведенный на присутствующих в зале — включая Марти, который был сфотографирован с жирной слезой, стекающей по его щеке — показал, что я затронул аккорд.
Но самый важный обзор произошел в тот вечер, когда я позвонил своей бабушке на Гавайи.
"Это была очень хорошая речь, Бар", — сказала она мне. "Я знаю, это было нелегко".
"Спасибо, Тоот".
"Ты знаешь, что я горжусь тобой, не так ли?".
"Я знаю", — сказала я. И только после того, как я повесила трубку, я позволила себе заплакать.
Речь остановила кровотечение, но ситуация с преподобным Райтом принесла свои плоды, особенно в Пенсильвании, где демократические избиратели старше и консервативнее. От откровенного падения нас удержала тяжелая работа наших волонтеров, приток денег от мелких доноров, которые помогли нам запустить рекламу в течение четырех недель, и готовность некоторых ключевых чиновников штата поручиться за меня перед своим белым рабочим классом. Главным среди них был Боб Кейси, приветливый ирландский католик, сын бывшего губернатора штата и один из моих коллег в Сенате США. У него не было особых преимуществ — Хиллари пользовалась широкой поддержкой и, скорее всего, выиграет этот штат, и он еще не объявил о своей поддержке, когда видео с преподобным Райтом стало новостью. И все же, когда я позвонил Бобу перед выступлением и предложил освободить его от обязательства поддержать меня в свете изменившихся обстоятельств, он настоял на своем.
"Дела Райта не очень хороши", — сказал он, немного преуменьшив значение мирового уровня. "Но я все равно чувствую, что вы тот самый парень".
Затем Боб подкрепил свое одобрение порядочностью и мужеством, проводя кампанию рядом со мной более недели, вверх и вниз по Пенсильвании. Постепенно наши показатели начали расти. Хотя мы знали, что победа нам не светит, мы полагали, что поражение в три-четыре очка остается в пределах досягаемости.
И тут, как по команде, я совершил свою самую большую ошибку за всю кампанию.
Мы прилетели в Сан-Франциско на мероприятие по сбору средств на крупные суммы, которое я обычно страшно боялся: оно проходило в шикарном доме и включало длинную очередь для фотографирования, закуски из грибов шиитаке и богатых доноров, большинство из которых были потрясающими и щедрыми один на один, но в совокупности соответствовали всем стереотипам либерала, пьющего латте и ездящего на Prius по Западному побережью. Мы засиделись допоздна, когда во время обязательной сессии вопросов и ответов кто-то попросил меня объяснить, почему, по моему мнению, так много избирателей из рабочего класса в Пенсильвании продолжают голосовать против своих интересов и выбирать республиканцев.
Мне задавали этот вопрос в той или иной форме тысячу раз. Обычно я без проблем описывал смесь экономического беспокойства, разочарования от кажущейся безответности федерального правительства и законных разногласий по социальным вопросам, таким как аборты, которые толкали избирателей в колонку республиканцев. Но то ли потому, что я был морально и физически измотан, то ли потому, что я был просто нетерпелив, мой ответ прозвучал иначе.
"Вы приезжаете в некоторые из этих маленьких городов в Пенсильвании, — сказал я, — и, как и во многих других маленьких городах на Среднем Западе, рабочие места исчезли уже двадцать пять лет назад, и ничто их не заменило. И они упали при администрации Клинтона и при администрации Буша, и каждая последующая администрация говорила, что каким-то образом эти общины возродятся, но этого не произошло".
Пока все хорошо. Вот только я потом добавил: "Поэтому неудивительно, что они озлобляются, цепляются за оружие или религию, или антипатию к людям, которые не похожи на них, или антииммигрантские настроения, или антиторговые настроения как способ объяснить свои разочарования".
Я могу привести здесь точную цитату, потому что в аудитории в тот вечер находилась внештатная писательница, которая записывала меня. По ее мнению, мой ответ рисковал усилить негативные стереотипы, уже сложившиеся у некоторых калифорнийцев о белых избирателях из рабочего класса, и поэтому о нем стоило написать в блоге на Huffington Post. (Кстати, я уважаю это решение, хотя мне жаль, что она не поговорила со мной об этом, прежде чем писать статью. Это то, что отличает даже самых либеральных писателей от их консервативных коллег — готовность осыпать политиков со своей стороны).
Даже сегодня мне хочется вернуть это предложение назад и сделать несколько простых правок. "Поэтому неудивительно, что они расстраиваются, — сказал бы я в своем пересмотренном варианте, — и обращаются к традициям и образу жизни, которые были постоянными в их жизни, будь то их вера, или охота, или работа "синих воротничков", или более традиционные понятия семьи и общины. И когда республиканцы говорят им, что мы, демократы, презираем эти вещи, или когда мы даем этим людям основания полагать, что это так, тогда самая лучшая политика в мире не имеет для них никакого значения".
Это то, во что я верил. Именно поэтому я получал голоса белых сельских избирателей в штатах Иллинойс и Айова — потому что они чувствовали, даже когда мы не соглашались по таким вопросам, как аборты или иммиграция, что я в корне уважаю их и забочусь о них. Во многих отношениях они были мне более знакомы, чем люди, с которыми я разговаривал той ночью в Сан-Франциско.
И поэтому я до сих пор размышляю об этой череде неудачно подобранных слов. Не потому, что из-за нее мы подверглись новому витку издевательств со стороны прессы и кампании Клинтона — хотя и это было невесело, — а потому, что эти слова в итоге получили такую долгую жизнь. Фразы "горький" и "цепляться за оружие или религию" легко запомнились, как крючок в поп-песне, и их будут цитировать вплоть до моего президентства как доказательство того, что я не смог понять белых людей из рабочего класса или достучаться до них, даже когда позиции, которые я занимал, и политика, которую я отстаивал, постоянно указывали на обратное.