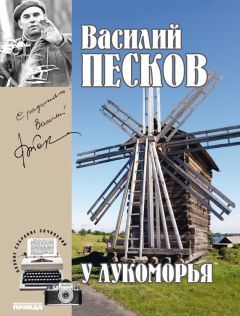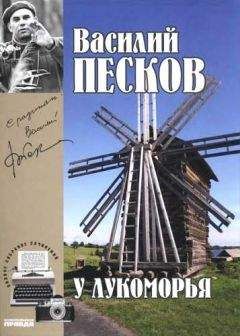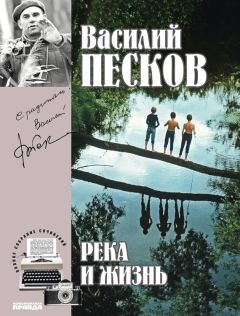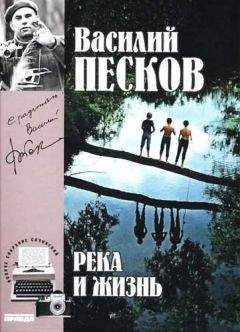Александр Лебедев - Чаадаев
«Народ, — писал Герцен, — остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была разорвана, ее надлежало восстановить, но каким образом? В том-то, — замечает Герцен, — и состоял великий вопрос». И вопрос этот навевал трагические мысли тогдашнему образованному человеку: «Что же это, наконец, — писал тот же Герцен, — за чудовище, называемое Россией, которому нужно столько жертв и которое представляет детям своим лишь печальный выбор погибнуть нравственно в среде, враждебной всему человечеству, или умереть на заре своей жизни? Это бездонная пучина, где тонут лучшие пловцы, где величайшие усилия, величайшие таланты, величайшие способности исчезают прежде, чем успевают чего-либо достигнуть».
«Страшно далеки они от народа» — эти хорошо известные всякому русскому читателю ленинские слова, обращенные к декабристам, в нашем сознании звучат почему-то чаще всего как некое порицание декабристов, их «исторической вины» перед Россией, ее будущим. Но, пожалуй, подобное осмысление этих слов односторонне. Ведь если уж говорить об «исторической вине» тогдашних русских людей, так и не сумевших повернуть свою страну на иной путь, избавивший бы ее от многих и многих лет деспотизма и т. д., то ведь и о самом народе, прежде всего о тогдашнем русском крестьянстве, следует сказать, что оно оставалось в ту пору еще «страшно далеко» от всякого осознанного общественного протеста, от наиболее передовых идей своего времени. Это еще была почва, на которой не могли прорасти семена каких-либо радикальных прогрессистских идей. Медленно, очень медленно совершалось движение в «низах» России, изменялась социальная психика народных масс. Но чем дальше, тем больше становились изменения, происходившие среди по-прежнему «безмолвствовавшего» народа. Медленно, но верно Россия подтягивалась к своей первой революционной ситуации шестидесятых годов. Ко времени, когда было написано знаменитое письмо Белинского к Гоголю, эти изменения в «низах» сделались уже достаточно ощутимы. Даже «верхами» России они начали вдруг восприниматься как предвестие серьезной политической угрозы строю.
«Простой народ ныне не тот, что был за 25 лет перед тем. Весь дух народа направлен к одной цели — к освобождению... Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством, и тем опаснее, что войско составлено из крестьян же». Это писал в ту пору Бенкендорф в секретном отчете Николаю.
Социальный протест передовых образованных людей обретал новую социальную почву. Романтическое утешительство социально-этических утопий отживало свое время.
Чаадаев отмирал.
Чаадаев перевоплощался.
Ибо процесс «конкретизации» идеала, о котором говорит Плеханов, отнюдь, конечно же, не завершился в Белинском. И шестидесятые годы в итоге принесли передовому русскому обществу отнюдь не меньшую, если не большую только трагедию, нежели двадцатые. И снова обманутые надежды грозили отчаянием и разрушением личности, и снова люди «уходили в себя»...
«Могучий и светлый Чернышевский, — писал Луначарский, — который, занимая даже самые радикальные позиции, не мог уже чувствовать себя таким одиноким, как Белинский, все же весьма скептически относился к надеждам революционного порядка для своего времени. Блестящим и раздирающим памятником этих сомнений, этого научного скептицизма Чернышевского является так мало оцененный в нашей литературе роман его „Пролог“. Чернышевский все-таки оказался искупительной жертвой, но он старался сделать все от него зависящее, чтобы не растерять своих сил, сил подготовителя на прямую, еще несвоевременную борьбу. Хотя Чернышевский героически вынес искушения каторги и ссылки, но сравнение Чернышевского, каким он выехал в Сибирь, с Чернышевским, каким он приехал оттуда, наводит не меньшую тоску, чем какое угодно крушение других великанов нашей мысли, нашей литературы.
Этот список, — замечает Луначарский, — можно было бы длить до бесконечности. Мы все время находили бы людей, которые проснувшись до полноты сознания, ориентировавшись в окружающей тьме, в той или иной мере бросали ей вызов, в той или другой мере были ею разбиты то физически, то морально-политически, а часто и так и этак».
И, погибая, многие из этих людей готовы были бросить своей стране, погубившей их, своему народу, хладнокровно взиравшему на их мученичество и. их гибель, слова последнего безнадежного проклятья, как бы говоря вместе с Пушкиным:
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Только «патриот», уже насквозь пропахший квасом, попрекнет великого поэта этими строками. Это были строки «настоящей любви к родине, любви тоскующей».
«В письме к Я. И. Булгакову из Монпелье от 25 января... 1778 г., — замечает Плеханов в одной из своих статей о Белинском, — Фонвизин говорит: „Не скучаю вам описанием нашего вояжа, скажу только, что он доказал мне истину пословицы: славны бубны за горами. Право, умные люди везде редки. Если здесь прежде нас жить начали, то, по крайней мере, мы, начиная жить, можем дать себе такую форму, какую хотим, и избегнуть тех неудобств и зол, которые здесь вкоренились... Я думаю, что тот, кто родится, посчастливее того, кто умирает“.
И, приведя этот действительно любопытный с точки зрения истории русской общественной мысли отрывок из письма старинного русского писателя, Плеханов так говорит далее: «Насколько я знаю, это самая первая из наших „формул прогресса“, основывающаяся на историческом идеализме и сводящаяся к отрадному убеждению, что „мы“ можем дать себе любую „форму“... И ту же самую, — продолжает Плеханов свою мысль, — „формулу“ мы встречаем... у Чаадаева, поскольку он в самом деле занимался подобными выкладками, у Герцена и у Чернышевского. В каждой разновидности этой основной формулы „мы“ означает не народную массу, а ту часть населения, которая предполагается руководительницею народа. Вот что говорит, например, Белинский об исторической роли Петра Великого: „Русская поэзия, как и русская жизнь... до Петра Великого была только телом, но телом, полным избытка органической жизни, крепким, здоровым, могучим, великим, вполне способным, вполне достойным стать сосудом необъятно великой души, — но телом, лишенным этой души и только ожидающим, ищущим ее... Петр вдул в него душу живую — и замирает дух при мысли о необъятно великой судьбе, ожидающей народ Петра...“ В „формуле“ Герцена роль тела играл уже народ с его общинным бытом, а роль Петра — образованное дворянство, преимущественно среднее и мелкое, которому рекомендовалось проникнуться социалистическим идеалом. У субъективистов дворянство заменялось разночинцами и т. д. Дело, — заключает свою мысль Плеханов, — не в этих видоизменениях, а в том, что в каждом из них двигателем исторического развития является не народ, а кто-то, расположенный к народу и выбирающий за него ту или другую „форму“.
И опять-таки к сказанному тут хочется и следует добавить, что этот разрыв идеи исторического прогресса с реальностью, выразившийся в указанном Плехановым разрыве передовых людей старой России и народа, — этот разрыв не может быть объяснен лишь «незрелостью» мыслящих «верхов», «недоработками» в их теориях и идеалах.
Ведь в конце-то концов если уж быть вполне последовательным в изложении точки зрения, выраженной здесь Плехановым, то следует все-таки признать, что и эта незрелость и эти недоработки в конце концов в итоге связаны с уровнем общественного развития тех же народных масс, с их собственной незрелостью и их собственными историческими «недоработками». Утверждая связь передовых идей той или иной эпохи с общественными «настроениями», уровнем развития народных масс, не следует, очевидно, проявлять странную непоследовательность, указывая на эту связь, поскольку речь идет об «идейных достижениях» данной эпохи, и умалчивая об этой связи, поскольку речь заходит об ограниченности передовых идей и принципов того же самого времени. Степень «исторической виновности», если только прибегать к этому поэтическому термину, просвещенных передовых «верхов», которые в каком-то случае так и не смогли прийти со своими идеями к народу, и темных, забитых «низов», которые так и не поднялись в данном случае до понимания этих идей, очевидно, все-таки и не может не быть совершенно равна по крайней мере.
«Оттого, — писал Герцен, — что мы глубоко, непримиримо распались с существующим, оттого ни у кого нет собственно практического дела, которое было бы принимаемо за дело истинное, вовлекающее в себя все силы души. Отсюда небрежность, беспечность, долею эгоизм, лень и бездействие. Вот среда, благоприятная для развития! Чем больше, тем внимательнее всматриваешься в лучших, благороднейших людей, тем яснее видишь, что это неестественное распадение с жизнью ведет к идиосинкразиям, к всяким субъективным болезням. Блажен, кто в стороне от дел может с головою погрузиться в частную жизнь или в теорию. Не всякий может. И эти-то немогущие вянут в монотонной, длинной агонии, плачевной и, главное, убийственно скучной. В юности все кажется еще, что будущее принесет удовлетворение всему, лишь бы скорее добраться до него, но на середине нашего жизненного пути нельзя себя тешить — будущее нам лично ничего не предвещает, разве гонения усугубленные и опять скуку бездействия. Будут ли наши дети счастливее? Всякий раз, — говорит Герцен, — когда я вижу Чаадаева, например, я содрогаюсь».