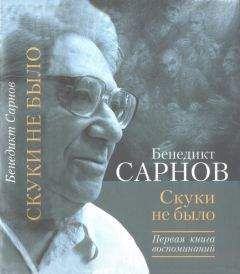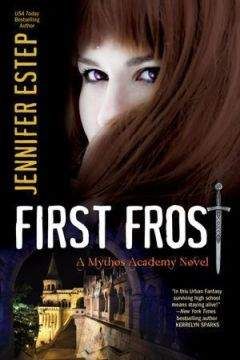Бенедикт Сарнов - Скуки не было. Вторая книга воспоминаний
Такого поэта он не знал., что было ударом по его эрудиции. Предприняли расследование. Выяснилось, что из Сюпервьеля на русский язык переведено два стихотворения в антологии Бенедикта Лившица. Выяснилось также, что Белинков французского не знает. Слуцкий успокоился. На Сюпервьеля он не был похож.
(Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 153–154)И вот этот литературный пижон, этот рафинированный сноб и эстет, взращенный на стихах никому кроме него не ведомого «раннего Сюпервьеля», представьте, отвергал «Собачье сердце» Булгакова. Во всяком случае, с нескрываемым раздражением говорил о герое этой повести профессоре Преображенском, ухитрившемся сохранить в революционной Москве свой оазис старого, буржуазного быта. Он ни в малейшей степени не сочувствовал отчаянному возгласу этого булгаковского персонажа: «Пропал Калабуховский дом!» По его, Аркадия, искреннему убеждению, этому «Калабуховскому дому» с его галошницей и швейцаром в парадном подъезде и надлежало пропасть, сгинуть, сгореть в очистительном огне революции. Да и сам профессор Преображенский в его глазах не слишком далеко ушел от ненавистных ему «толстяков». Во всяком случае — от тех (вроде учителя танцев Раздватриса), кто этих «толстяков» обслуживает, получая за службу все, так прельщающие их, жизненные блага.
Аркадий любил революцию. Искренне желал, чтобы в ее огне сгорели и «толстяки», и обслуживавшие толстяков «Раздватрисы». И если что и нравилось ему в той булгаковской повести, так только мелькнувшая в ней тень сановного заступника профессора Преображенского — этот символ уже начинавшегося в те булгаковские времена ненавистного Аркадию термидора.
Впрочем, дело было не только в его любви к революции и ненависти к термидору.
Аркадию было присуще гордое сознание своей причастности к сословию русских интеллигентов-разночинцев.
Каждый, кто, по его мнению, слишком хорошо устроился в этой новой советской жизни с ее великосветским бонтоном и нуворишеским буржуазным разворотом, был у него на подозрении.
Свою главную книгу «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» он начинает так:
Я пришел домой и увидел из двери нашей комнаты приколотую записку. Вот что там было написано:
«Аркадий. Я опять ничего не успела. Сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба полкило, если есть — обдирный, макароны одну пачку, мыло хоз. один кус, соль одна пачка Я работала целый день и опять ничего не успела. На тумбочке 80 к. Должна быть сдача Пожалуйста, не потеряй. Целую, Наташа. Извини, что отрываю тебя, но ведь надо же как-то жить. Обязательно возьми авоську. Целую, Наташа».
Я взял авоську, восемьдесят копеек и пошел в магазин.
Через час я вернулся… Медленно вытащил из авоськи полкило хлеба, коробку макарон, кусок хозяйственного мыла, пачку соли, положил на тумбочку двенадцать копеек сдачи и сел за письменный стол
— Книги Юрия Олеши, — писал я, — точны как маленькие макеты нашей истории…
— Но ведь надо же как-то жить, писать — думал я..
Все это, наверно, так и было. Во всяком случае, записка его жены Наташи, которую он тут приводит, — невыдуманная. Настоящая, подлинная.
Но зачем именно вот так надо было начинать книгу о «сдаче и гибели» советского интеллигента?
Ну, во-первых, наверно, для того, чтобы сразу дать понять читателю, что книга, которую тот раскрыл, — не историко-литературная, вообще — не литературоведческая. Какая-то другая.
Но только ли для этого понадобилось ему сразу, с первой страницы ввести в свою книгу образ ее автора, «лирического героя»? Об этом, наверно, можно было бы еще порассуждать. Но здесь, сейчас я хочу отметить только одно: вот этот кусок хозяйственного мыла, эту пачку макарон, эти 80 копеек и 12 копеек сдачи.
Это было его знамя, его платформа, его кредо, его жизненная позиция:
Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее…
Но «Симку Нарбут» он ненавидел не за то, что она хотела (и сумела) устроить свою жизнь иначе. (В конце концов — это ее дело, пожалуйста!)
Ненавидел он ее потому, что всей кожей чувствовал (не раз прямо мне об этом говорил), что она, «Симка», презирает эту его «честную бедность», его неспособность вписаться в ту жизнь, которую она считает нормальной. Ненавидел не саму даже эту несчастную «Симку», а вот эту ее перевернутую шкалу всех жизненных ценностей. Ну и, конечно, то, что эту свою перевернутую шкалу она пыталась навязать (и как он, Аркадий, думал, весьма в этом преуспела) Виктору Борисовичу.
На этот счет у меня и тогда (а сейчас — тем более) были большие сомнения.
Основывались они на разных моих впечатлениях, в основном на рассказах Виктора Борисовича и Симы, которые вспоминать и пересказывать здесь я не буду. Но одну историю, ставшую одной из наших «аэропортовских» легенд, все-таки расскажу.
Когда Шкловские вселялись в свой новый дом, к которому позже в нашем микрорайоне прилепилось наименование «старый писательский», им там, как я уже говорил, досталась сравнительно небольшая двухкомнатная квартира. Многим же другим новоселам в том «старом писательском» достались трехкомнатные и даже четырехкомнатные.
Среди них были литераторы разного достатка. Но владельцы четырехкомнатных, как правило, были люди богатые, и свой новый быт они устраивали с размахом. Обставляли квартиры красным деревом и карельской березой. Вешали какие-то грандиозные антикварные люстры.
Хорошо помню юмористический рассказ Симы об одном из этих «хозяев жизни», которому посчастливилось стать обладателем немыслимой красоты и ценности голубого хрустального шара. Шар этот надлежало прикрепить к потолку самой большой, центральной комнаты его новой квартиры. Для этой цели был вызван «искусствовед Юра»: искусствовед он был настоящий, окончил искусствоведческое отделение филфака МГУ. Но поскольку эфемерная эта профессия должным образом прокормить его не могла, Юра овладел профессией электромонтера, на каковую должность и устроился в нашем ЖСК «Московский писатель».
И вот стоит этот искусствовед Юра на стремянке, а хозяин квартиры осторожно, дрожащими руками вручает ему тот драгоценный шар из голубого хрусталя. Юра так же осторожно, как ребенка, принимает у него — из рук в руки — эту драгоценность, и… О, ужас!.. Каким-то непостижимым образом шар выскальзывает у него из рук, падает на пол и разлетается вдребезги.
Немая сцена.
И в наступившей жуткой тишине со стремянки раздается голос искусствоведа:
— Ну? Что еще будем делать?
Надо отдать Симе должное, историю эту она рассказала, живо ощущая — и сумев передать — не только драматическую, но и комическую ее основу. Но в то же время чувствовалось: окажись она сама в положении владельца разбившегося голубого хрустального шара, нашему искусствоведу Юре не поздоровилось бы.
Имя этого несчастного владельца в том Симином рассказе не упоминалось. Не упоминались, сколько мне помнится, и другие имена счастливых обладателей четырехкомнатных квартир. Ясно было только одно: каждый из них, говоря словами Зощенко, был «кавалер и у власти», и каждый был одержим стремлением хоть в чем-то превзойти соперника.
В угаре этого «соцсоревнования» Виктору Борисовичу досталась особая роль. То один, то другой богатый новосел норовил зазвать его к себе в гости. (Человек «с раньшего времени», повидал кое-что на своем веку, кто еще, если не он, может оценить истинный вкус.)
И вот, будучи зазван к кому-то из этих «кавалеров и у власти», Виктор Борисович оглядел всю представшую пред его взором антикварную роскошь и с неизменной своей улыбкой произнес:
— А вы не боитесь, что придут красные?
Это знаменитое «шкловское» mot было вполне в духе постоянных воплей моего друга Аркадия о свершившемся — и торжествующем — в нашей стране термидоре. (Хотя, по сравнению со сталинщиной и даже брежневщиной, настоящий термидор был бы для нас истинным счастьем.)
Нет, втянуть Виктора Борисовича в буржуазное болото, вписать его в этот великосветский бонтон, заразить этим азартом нуворишеского домостроительства Симе не удалось. (Даже если предположить, что она этого и хотела.) Даже свой вкус «прирожденного дизайнера» она в полной мере проявить не смогла: весь дизайн их двухкомнатной квартиры, все ее внутреннее убранство было целиком подчинено вкусам Виктора Борисовича. Вернее, даже не вкусам, а старым, давно сложившимся его рабочим привычкам.
В давней статье, написанной для сборника «Как мы пишем», он так рассказывал о технологии своего писательского труда:
Начинаю я работу с чтения… Читаю я много… Делаю цветные закладки или закладки разной ширины. На закладках, на случай, если они выпадут, хорошо бы делать, а я не делаю, обозначение страницы. Потом просматриваю закладки. Делаю отметки. Машинистка, та самая, которая печатает статью сейчас, перепечатывает куски, с обозначением страницы. Эти куски, их бывает очень много, я развешиваю по стенам комнаты. К сожалению, комната у меня маленькая, и мне тесно…