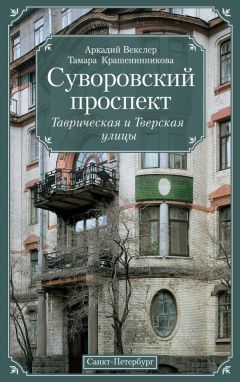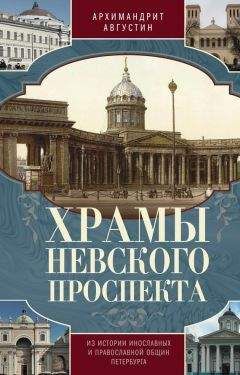Александр Николюкин - Розанов
Несколько лет спустя Розанов пишет для «Мимолетного» свое раскаяние:
«Грех, грех, грех в моих словах о Конст. Леонтьеве в „Оп. л.“. Как мог решиться сказать. Помню, тогда был солнечный день (утро), я ехал в клинику и, приехав и поговорив с мамой, — сел и потихоньку записал у столика.
Леонтьев — величайший мыслитель за XIX в. в России. Карамзин или Жуковский, да, кажется, из славянофилов многие — дети против него. Герцен — дитя. Катков — извощик, Вл. Соловьев — какой-то недостойный ерник.
Леонтьев стоит между ними как угрюмая вечная скала. „И бури веют вокруг головы моей — но голова не клонится“.
Мальчишеские слова (мои о нем).
Как смел — не понимаю»[192].
Современники не приняли Леонтьева. И Розанов вспоминает концовку стихотворения Я. П. Полонского «Бэда-Проповедник»: «И шум камней упавших был ему ответом» («Аминь!» — ему грянули камни в ответ).
Рожденный «не в своем веке», Леонтьев не прожил счастливой жизни. Но время его, верит Розанов, еще впереди. «Время его придет. И вот, когда оно „придет“, Леонтьев в сфере мышления наверное будет поставлен впереди своего века и будет „заглавною головою“ всего у нас XIX столетия, куда превосходя и Каткова и прекраснейших наших славянофилов, — но „тлевших“, а не „горевших“, — и Чаадаева, и Герцена, и Влад. Соловьева. В нем есть именно мировой оттенок, а не только русский. Собственно, он будет оценен, когда кончится „наш век“, „наша эпоха“, с ее страстями, похотями и предрассудками»[193].
В Леонтьеве Розанов видит мыслителя будущего века: «Леонтьев был именно „пифагореец нового века“, вот будущего века, вот грядущего века, о коем хочется сказать: „Эй, гряди скоро! Приходи новый хозяин в дом“… Все старое решительно надоело и, кажется, прокисло»[194].
Можно совершенно не разделять ни одно из убеждений Леонтьева, говорит Розанов, совершенно не сходиться с его мыслями и отвергнуть всю его «политику». Но и тогда останется «чудный эстетический метод» крупнейшего русского философа.
* * *Но все это было позже, а тогда, в июне 1891 года, после тайного венчания молодые спешили покинуть Елец, что было оговорено заранее как условие брака.
В письмах Страхову Розанов не раз писал, что учительство мешает ему хорошо работать для журналов, а работая дурно, он отдаляет от себя возможность развязаться с «ненавистным учительством». «Но из этого заколдованного круга я вырвусь же… Только доношу фрак, летом сшитый, — а новый шить не стану»[195].
В ответ на письма Розанова, рассказывающие о городских пересудах, Страхов писал: «Да что это за поганый город Ваш Елец? Что за нравы, что за люди!» Розанов не соглашался: «Очень милый, в общем, — с прелестными единичными людьми и благородными нравами… Где Илион — там и Тирсит, но есть и Приам; где Иерусалим — там найдется и Иуда, но есть и Божия Матерь. Город — никогда не плох. Город — святыня, потому что он „множество“»[196].
На радостях «после венца» Василий Васильевич приехал с Варварой Дмитриевной в Москву и поселился в Лоскутной гостинице (на месте нынешней Манежной площади), «страшно дорогой». За 11 лет до того в ней останавливался Достоевский. Тогда, летом 1880 года, его не было в Москве, иначе он непременно пришел бы слушать знаменитую речь своего любимого писателя на Пушкинских торжествах по случаю открытия памятника поэту.
Из-за дороговизны гостиницы Розанов с женой вскоре перебрался на Воробьевы горы, в староверческую семью. Еще будучи в университете, Василий Васильевич провел лето на Воробьевых горах. И оба раза любовался чистотой комнаток староверов, множеством образов и лампад, тихим семейным обращением с женой и детьми. «О пьянстве даже духа нет! — вспоминал он. — Дома у них большие, просторные, не завалившиеся и, главное, какая прелестная, уже высококультурная внешняя черта: три березки перед окнами дома. И не понимаю, откуда это взялось: ведь не в состав же „старой веры“ входит»[197].
Свидевшись в Москве с братом Николаем, директором Бельской прогимназии (в Смоленской губернии), Василий Васильевич договорился перевестись к нему учителем, на место своего университетского товарища Константина Васильевича Вознесенского, который согласился поступить на его место в Елец.
Только позднее Розанов узнал, что ему намечалось место инспектора прогимназии в Рязани, о чем Страхов написал ему из Петербурга на адрес Лоскутной гостиницы. Но обстоятельства или «случай» не позволили ему воспользоваться предоставившейся возможностью.
Почти со слезой в голосе Василий Васильевич рассказывает: «Прихожу в Лоскутную — справиться, нет ли писем. Не давая пачки мне, пышный швейцар пересмотрел и сказал — „Нет“. Я уплатил за труд просмотра двугривенный — и пошел назад. Между тем именно это столь важное для меня письмо и было у швейцара. Он его отыскал, когда я вторично зашел, и сказал, что наверно есть, потребовал. Между тем уже до этого, встретясь в Москве с братом-директором и с К. В. Вознесенским, я уговорился, за отсутствием какого-либо исхода, на перевод в гор. Белый. Так вялая, тупая неряшливость прислуги собственно и была причиною моего законопачения в гор. Белый. Инспекторство в таком прелестном городе, как Рязань, конечно бы вполне меня удовлетворило. Хотя, может быть, оттуда бы я уже не попал в Петербург»[198].
Между тем наступило безденежье столь страшное, что с Воробьевых гор однажды, когда жена заболела, Василий Васильевич прошел пешком верст за шесть в аптеку по рельсам паровой конки, «ибо на лекарство было что-то полтинник, а на конку даже 10 коп. — не было»[199]. Вот тогда-то и написал он для «Московских ведомостей» статью с программным названием «Почему мы отказываемся от наследства 60–70-х годов?». Появление этой статьи настолько памятно современникам, так впечатлило их, что даже шесть лет спустя Н. К. Михайловский, а за ним В. И. Ленин в работе «От какого наследства мы отказываемся?» вновь и вновь безуспешно пытались опровергнуть мысль Розанова.
Что же такое сказал Розанов, что всполошило весь демократический лагерь — от народников до марксистов? Молодой публицист не сделал никакого открытия, не провозгласил новой философской доктрины и не перевернул с головы на ноги какую-либо старую.
Розанов наметил в своих работах важнейший вопрос бытия России, который она изживала своим кровавым опытом весь XX век. Поздние народники, а затем социал-демократы объявили себя наследниками «великих шестидесятников», призывавших Русь к топору, к революционному переустройству общества. Дети и внуки на себе испытали острие этого топора, скосившего не только дворян и офицеров, но и духовенство, крестьянство, казачество, интеллигенцию, — русскую культуру в ее цвете и плодоношении.