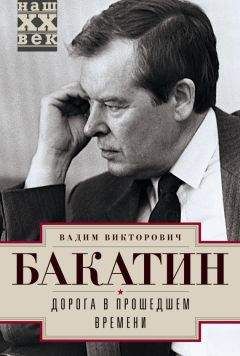Николай Карабчевский - Что глаза мои видели. Том 2. Революция и Россия
После завтрака Керенский мне кое-кого представил.
— Вот прапорщик Козьмин, прямо с каторги! Его мы назначим помощником начальника Петроградского гарнизона. Либо его убьют солдаты, либо он их сломит и заставит идти на фронт, — сказал он полушутя, полусерьезно, пока я здоровался с сухощавым, с темным лицом, в военной форме не совсем молодым прапорщиком.
Познакомил он меня и с господином, показавшимся мне суетливо-возбужденным, с шевелюрой и бородой, не мало, по-видимому, страдавших от его легкой возбуждаемости, так как он часто хватался за голову, и не мало теребил свою бороду.
— Чернов!
Стыжусь сознаться, но, в то время, это имя мне еще ровно ничего не сказало. В последнее время я мало знал состав наших революционных знаменитостей.
С Черновым мы прошлись несколько раз по зале, где все разбились на группы. О чем была наша беседа не вспоминаю, да она как-то все обрывалась… Его бегающее по сторонам глаза и нервные беспокойные движения мало располагали к откровенности. Казалось, что его голова уже упорно чем-то занята и что весь он во власти какого-то нетерпеливого ожидания.
По временам он, как будто, самодовольно потирал руки, на лице его, довольно подвижном и выразительном, распускалось при этом что-то вроде затаенной торжествующей усмешки, как будто он мысленно говорил: «вот, вот, я здесь, я здесь!.. Мы все это узнаем, все устроим, мы тут, мы не даром тут!»
Я пробовал заинтересовать его моими сообщениями относительно кронштадтских зверств и относительно нежелательных эксцессов революции, но его, по-видимому, все это мало интересовало и он никак на мои сообщения не реагировал.
Какая-то своя доминирующая его мозг, идея не давала ему покоя…
Когда к нам подошел Керенский, мне не показалось чтобы они были дружны, или очень близки. Чернов, заложив руки глубоко в карманы своих брюк, также загадочно-рассеянно, слушал его, как раньше вел беседу со мною.
Я спросил Керенского, когда же мы поговорим о кронштадтских пленниках. Но он уже куда-то спешил и почти на ходу сказал мне:
— Да, да, я об этом подумал и скоро, очень скоро сообщу вам свой план… Простите, надо ехать… Автомобиль уже ждет.
Все стали расходиться.
Я прошел внутренним коридором в помещение министерства юстиции, где, в одном из больших кабинетов, должна была сейчас заседать комиссия по пересмотру и обновлению устава уголовного судопроизводства, членом которой состоял и я. Ораторский турнир был уже в полном разгаре. Вновь испеченный сенатор, Оскар Грузенберг, нервно и желчно что-то доказывал, а профессор (тоже возведенный в сенаторы) Чубинский сладкопевно, елейно-тягуче ему возражал. Председательствующий, Зарудный, возражал им обоим, и предлагал свою собственную «конструкцию защиты на предварительном следствии».
Все высказывались по этому вопросу, не зная как лучше оградить «права обвиняемого», а во мне, в это время, все горело внутри. Хотелось бросить всем этим застольным юристам жестокое слово негодования по поводу бесплодной траты времени, сил и слов… бесконечного количества слов.
Обдумывать мельчайшие оттенки и тонкости спасительных благопожеланий, когда кругом царит явное бесправие и грубейшее нарушение самых примитивных основ правосудия.
Жалким фарисейством, постыдным самообманом показалось мне собственное мое участие во всех этих бесплодных комиссиях и когда поднялся еще профессор Люблинский, чтобы «сказать и свое слово», я шумно отодвинулся от стола и поспешно ретировался.
Ведь потом будет еще красноречиво говорить А. Ф. Кони, а там и только что прибывший из своей «чрезвычайки» Н. К. Муравьев; не утерпит и будущей обвинитель четы Сухомлиновых обер-прокурор Носович и, пожалуй, «прибудет» еще со своими директивами сам «сенатор Соколов»…
А после не утерпят и станут возражать и Грузенберг, и Чубинский, и Люблинский… и, в заключение, товарищ министра, Зарудный, не упустит случая «кратко резюмировать», т. е. пространно перефразировать все сказанное… А сказано-то, сказано!.. Если бы собрать всю эту энергию слов, казалось бы гору можно сдвинуть…
Но не только «гора» не сдвигалась, но и, кронштадтская западня не распахивалась и, ежеминутно грозившая подследственным заключенным, мученическая смерть, была единственной организованной для них защитой, о которой велись всё эти тонкие дебаты.
Глава сорок четвертая
В самом Петрограде, тем временем, большевистская пропаганда, параллельно с анархической, работала вовсю.
Особняк балерины Кшесинской, дача Дурново и еще кое-где целые усадьбы, по окраинам, были к услугам и в бесконтрольном распоряжении носителей самых черных замыслов. От времени до времени оттуда направлялись по людным улицам Петрограда «мирные» демонстрации вооруженного сброда. Надо было видеть эти лица, с тупым, звериным выражением, чтобы понять, что их в вид «пробы» выпускают для устрашения обывателя, с уверенностью безнаказанности вывешивания таких плакатов, как «смерть буржуям»…, «штык им в живот»… «долой капиталистов, попов, офицеров», и. т. п.
Гуманные власти не решались им препятствовать, находя, что это лишь «выражение мнений», которые в свободной стране должны быть свободны. Любопытно было бы видеть, что бы сказали те же «гуманные» власти, если бы по Невскому проспекту двинулась процессия с пением «Боже царя храни?» Или уже это была бы контрреволюция!..
Таким образом, большевистская пропаганда велась совершенно открыто и никто не находил это явлением антигосударственного характера, при котором переход от слова к делу, вполне естественен. Тоже творилось и в Царском Селе и в ближайших к Петрограду местностях.
Кто-то, кого-то расстреливал в Шувалове; где-то пьяные солдаты проткнули штыком мирно возвращавшегося домой присяжного поверенного; кого-то бросили живым в прорубь и он утонул… Убийства, то здесь, то там, совершались ежедневно, и при свете дня, и в ночную пору, и уже никого не удивляли, оставаясь безнаказанными. Всякий преступник мог легко укрыться в любом «анархическом» убежище, особенно надежно на даче Дурново, пробредшей славу совершенно неприступной крепости.
Кронштадт, с каждым днем, с каждым часом, все, более и более, дичал своею безобразною обособленностью, являясь уже почти совершенно отрезанным, от остальной России, ломтем.
Судьба пленных кронштадтских офицеров, обреченных на произвол матроской черни, иллюстрировала наглядно, на всю Россию, бессилие власти Временного Правительства.
Привет «углублению революции» и опасение «контрреволюции» олицетворялись в Керенском с перемежающимся упорством, и, в слепоте своей, он не замечал, что уподобляется игрушечному паяцу, которого дергает по произволу то, или другое, партийное настроение, согласно вражеским директивам.