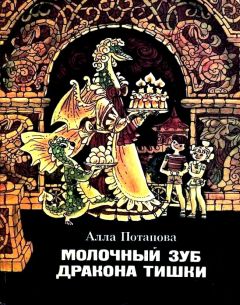Владислав Ходасевич - Некрополь
– Да ведь это же перед рейсом, а не после рейса! – закричал он. – После рейса буфет не работает! Такие вещи знать надо!
Он умер от воспаления легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости. Но этот процесс был залечен лет сорок тому назад, и если напоминал о себе кашлем, бронхитами и плевритами, то все же не в такой степени, как об этом постоянно писали и как думала публика. В общем он был бодр, крепок – недаром и прожил до шестидесяти восьми лет. Легендою о своей тяжелой болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать. Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях и от приема неугодных посетителей. Но дома, перед своими, он не любил говорить о болезни даже тогда, когда она случалась действительно. Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы – он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три время от времени предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей.
* * *Больше тридцати лет в русском обществе ходили слухи о роскошной жизни Максима Горького. Не могу говорить о том времени, когда я его не знал, но решительно заявляю, что в годы моей с ним близости ни о какой роскоши не могло быть речи. Все россказни о виллах, принадлежавших Горькому, и о чуть ли не оргиях, там происходивших, – ложь, для меня просто смешная, порожденная литературной завистью и подхваченная политической враждой.
Обыватель не только охотно верил этой сплетне, но и ни за что не хотел с ней расстаться. Живучесть ее была поразительна. Ее, можно сказать, бередили в себе и лелеяли, как душевную рану, ибо мысль о роскошном образе жизни Горького многих оскорбляла. Фельетонисты возвращались к этой теме всякий раз, как Горький заставлял о себе говорить. В 1927–1928 гг. я несколько раз указывал покойному А. А. Яблоновскому, что не надо писать о волшебной вилле на Капри хотя бы потому, что Горький живет в Сорренто, что уже пятнадцать лет нога его не ступала на каприйскую почву, что даже виза в Италию дана ему под условием не жить на Капри. Яблоновский слушал, кивал головой и вскоре опять принимался за старое, потому что не любил разрушать обывательские иллюзии.
В последние годы каприйская вилла иногда, впрочем, все-таки заменялась соррентийской, но воображаемая на ней жизнь принимала еще более роскошный характер и вызывала еще больше негодования. И вот, я должен покаяться перед человечеством: эта злосчастная вилла была снята не только при моем участии, но даже по моему настоянию.
Приехав в Сорренто весной 1924 г., Горький поселился в большой, неуютной, запущенной вилле, которая была ему сдана только до декабря: ее должны были перестраивать. В этой вилле я Горького и застал. Когда приблизился срок выезда, стали искать нового прибежища. Так как зимой в Сорренто довольно холодно, то задумали перебраться на южный склон полуострова, под Амальфи.
Там нашли виллу, которую совсем уже было сняли. Максим, сын Горького от первого брака, поехал ее посмотреть еще раз. От нечего делать я отправился с ним. Вилла оказалась стоящей на крошечном выступе скалы; под южным ее фасадом находился обрыв сажен в пятьдесят – прямо в море; северный фасад лишь узкою полосой дороги отделялся от огромной скалы, не просто отвесной, но еще нависающей над дорогой. Эта скала постоянно осыпается, как весь амальфитанский берег. Вилла, на которой предстояло нам поселиться, еще за семь месяцев до того стояла на западной окраине маленького поселка, который очередным обвалом был буквально раздавлен и снесен в море. Я это хорошо помнил, потому что как раз в то время был в Риме. При катастрофе погибло человек сто. Саперы откапывали заживо погребенных, приезжал король. Вилла каким-то чудом уцелела, повиснув над новообразовавшимся обрывом, так что теперь и восточный ее фасад тоже смотрел в пропасть, которой дно еще было усеяно обломками дерева, кирпича и железа. Я объявил Максиму, что жизнь мне дорога и что жить здесь я не стану. Максим насупился – других свободных вилл не было. Мы поехали в Амальфи, а когда возвращались назад часа через два, то в километре от «нашей» виллы принуждены были остановиться и ждать, когда расчистят дорогу: пока мы обедали, случился очередной обвал.
Выбора не оставалось – сняли ту самую виллу «Il Sorito», которой суждено было стать последним прибежищем Горького в Италии.
Находилась она не в самом Сорренто, а в полутора километрах от него, на Соррентинском мысу, Gapo di Sorrento. Нарядная с виду и красиво расположенная, с чудесным видом на весь залив, на Неаполь, Везувий, Кастелламаре, внутри она имела важные недостатки: в ней было очень мало мебели и она была холодна. Мы переехали в нее 16 ноября и жестоко мерзли всю зиму, топя немногочисленные камины сырыми оливковыми ветвями. Ее достоинством была дешевизна: сняли ее за 6000 лир в год, что равнялось тогда пяти тысячам франков.
В верхнем ее этаже были столовая, комната Горького (спальня и кабинет вместе), комната его секретарши М. И. Будберг, комната Н. Н. Берберовой, моя комната и еще одна, маленькая, для приезжих. Внизу, по бокам небольшого холла, были еще две комнаты: одну из них занимали Максим и его жена, а другую – И. Н. Ракицкий, художник, болезненный и необыкновенно милый человек: еще в Петербурге в 1918 году, во время солдатчины, он зашел к Горькому обогреться, потому что был болен, и как-то случайно остался в доме на долгие годы. К этому основному населению надо прибавить мою племянницу, прожившую на «Sorito» весь январь, а потом время от времени приезжавшую из Рима, а также Е. П. Пешкову, первую жену Горького, которая приезжала из Москвы недели на две. Иногда появлялись гости, жившие по соседству, в отеле «Минерва»: писатель Андрей Соболь, приехавший из Москвы на поправку после покушения на самоубийство, профессор Старков с семейством (из Праги) и П. П. Муратов. Иногда к вечернему чаю заходили две барышни, владелицы виллы, сохранившие за собой часть нижнего этажа.
Жизнь в двух этажах протекала неодинаково. В верхнем работали, в нижнем, который Алексей Максимович называл детской, играли. Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати. С женой, очень красивой и доброй женщиной, по домашнему прозванию Тимошей, порой возникали у него размолвки вполне невинного свойства. У Тимоши были способности к живописи. Максим тоже любил порисовать что-нибудь. Случалось, что один и тот же карандаш или резинка обоим были нужны одновременно.