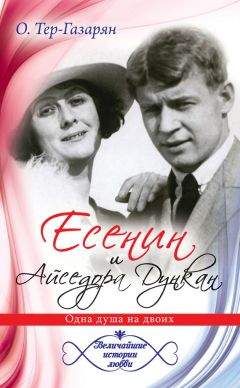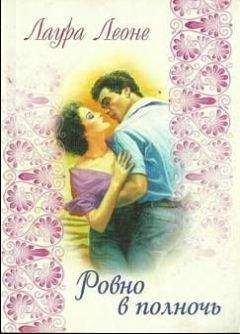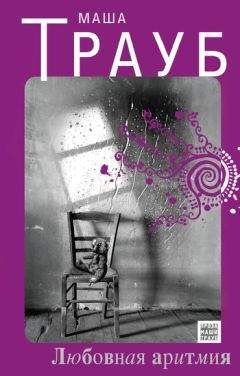Айседора Дункан - Моя жизнь. Встречи с Есениным
Я очень гордилась тем, что ездила с оркестром из восьмидесяти человек под управлением Вальтера Дэмроша. Это турне оказалось особенно успешным, ибо во всем оркестре царило доброжелательное отношение и к его главе, и ко мне. В самом деле, я чувствовала к Вальтеру Дэмрошу такую симпатию, что когда я останавливалась посреди сцены, перед тем как начать танцевать, мне казалось, что каждым нервом своего тела я связана с оркестром и его замечательным дирижером.
Это турне по Америке было, наверное, одним из счастливейших периодов в моей жизни. Я страдала только от естественной тоски по дому. Танцуя Седьмую симфонию, я представляла себя среди своих учеников, достигших уже того возраста, когда они могут исполнять ее вместе со мной. Итак, моя радость была неполной, но меня питала надежда на будущую большую радость. Впрочем, в жизни и не бывает абсолютной радости, а лишь надежда на нее. Последняя нота песни любви Изольды кажется совершенной, но ведь она означает смерть.
В Вашингтоне меня ожидала настоящая буря. Некоторые из министров в яростных выражениях протестовали против моих танцев.
Но внезапно, в середине одного из утренников, появился в литерной ложе, ко всеобщему изумлению, никто иной, как сам президент Рузвельт. Он, казалось, наслаждался представлением и первым аплодировал после каждого номера программы. Позже он написал одному из своих друзей:
«Какой вред находят министры в танцах Айседоры? Она кажется мне такой же невинной, как дитя, танцующее в саду в утреннем сиянии солнца и собирающее прекрасные цветы своей фантазии».
Эта фраза Рузвельта, которая обошла газеты, привела проповедников морали в большое смущение и облегчила наше турне.
Когда мы вернулись в Нью-Йорк, я с удовлетворением узнала в своем банке, что на моем счету имеется изрядный вклад. Если бы я не тосковала о моем ребенке и о школе, я никогда не уехала бы из Америки. Но однажды утром на пристани я покинула небольшую группу своих друзей — Мэри и Билли Робертсов, поэтов, артистов — и вернулась в Европу.
Глава двадцать вторая
В Париж Элизабет привезла встречать меня двадцать учениц школы и моего ребенка. Вообразите мою радость. В течение шести месяцев я была в разлуке со своей девочкой. Увидав меня, она недоуменно поглядела, а затем заплакала. Естественно, я тоже заплакала — казалось так странно и чудесно вновь держать ее в своих объятиях. А вот и второй мой ребенок — школа. Все ученицы очень выросли. Это была великолепная встреча.
Артист Люнье По взял на себя заботы о моих концертах в Париже и обещал привезти в Париж Элеонору Дузе, Сюзанну Депре и Ибсена. Он заметил, что мое творчество нуждалось в должном обрамлении, и ангажировал для меня театр «Гайете-Лирик» и оркестр Колонна с самим Колонном[58] во главе. В результате мы покорили Париж штурмом. Такие поэты, как Анри Лаведан, Пьер Милль, Анри де Ренье, восторженно писали обо мне.
Каждый концерт собирал сливки артистического и интеллектуального мира. Казалось, я была очень близка к осуществлению своей мечты, и желанная школа рисовалась в пределах легкой досягаемости.
Я наняла две большие квартиры в доме № 5 на Рю Дантон. Я жила на первом этаже, а на втором разместила всех детей школы с их воспитательницами.
Однажды, как раз перед началом дневного концерта, я пережила сильный страх. Мой ребенок внезапно, безо всяких предварительных явлений, начал задыхаться и кашлять. Я думала, что его болезнь может оказаться ужасным крупом, и, наняв такси, помчалась по Парижу, пытаясь застать дома какого-либо врача. Наконец я нашла известного детского специалиста, который отправился со мной и быстро успокоил меня, заявив, что нет ничего серьезного и это только кашель.
Я опоздала на дневной спектакль на полчаса. Колонн заполнил этот промежуток музыкой. В течение всех танцев я дрожала от страха за своего ребенка, которого обожала, и чувствовала, что если с ним что-нибудь случится, я не переживу его. Но все обошлось.
Дирдрэ уже бегала и танцевала. Она была исключительно миловидна и казалась прекрасной миниатюрой с Эллен Терри.
Событием сезона явился бал у Бриссона[59], на который были приглашены все артисты и литературные светила Парижа. Каждый должен был представлять собой какое-нибудь литературное произведение. Я отправилась на бал в качестве вакханки Еврипида и в облике вакханки встретила Мунэ-Сюлли в греческой одежде, олицетворявшего собой самого Диониса. Я танцевала с ним весь вечер — или, вернее, я танцевала перед ним, ибо великий Мунэ презирал современные танцы. Вокруг шептались, что наше поведение чрезвычайно скандально. Но в действительности оно было вполне невинно, и я доставила великому артисту несколько часов развлечения, которых он вполне заслужил. Казалось очень странным, что при своей американской невинности я могла в этот вечер так шокировать Париж!
За короткое время я успела достигнуть того предела, когда вновь наметился материальный крах. Моих средств не хватало на покрытие всех расходов по растущей школе.
За заработанные мной деньги я усыновила, заботилась и воспитывала сорок детей, двадцать из которых находились в Германии, а двадцать — в Париже. К тому же помогала и другим людям. Однажды я шутя сказала своей сестре Элизабет:
— Так не может продолжаться! Я превысила свой счет в банке. Если мы хотим, чтобы школа продолжала свое существование, мы должны разыскать какого-нибудь миллионера.
Стоило мне высказать это пожелание, как оно овладело мной.
— Я должна разыскать какого-нибудь миллионера! — повторяла я сто раз на день, сперва шутя, а затем, под конец, уже серьезно.
Как-то утром, после особенно удачного концерта в театре «Гайете-Лирик», я сидела в своей уборной перед зеркалом. Помнится, что мои волосы были завернуты в папильотки для дневного спектакля и прикрыты кружевным чепчиком. Вошла горничная с визитной карточкой, на которой я прочла очень известную фамилию, и тут меня осенило: «Вот мой миллионер!»
— Впустите его!
Он вошел, высокий, белокурый, с вьющимися волосами и бородой. Моей первой мыслью было: Лоэнгрин[60]. У него был очаровательный голос, но сам он казался застенчивым. «Он похож на большого мальчика, которому подвязали бороду», — подумала я.
— Вы меня не знаете, но я часто аплодировал вашему дивному искусству, — сказал он.
Тогда странное ощущение овладело мною. Я уже встречала прежде этого человека. Но где? Как во сне я вспомнила похороны князя Полиньяка, себя, горько плачущую молодую девушку, длинные ряды родственников в боковом приделе церкви. Кто-то вытолкнул меня вперед. «Нужно поздороваться», — шепнули мне. И я, охваченная искренним горем от смерти своего дорогого друга, пожимала руку всем родственникам, одному за другим. И внезапно я вспомнила взгляд одного из них.