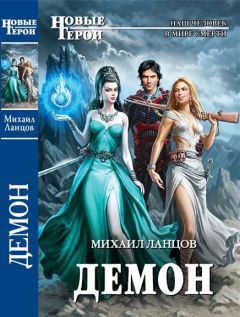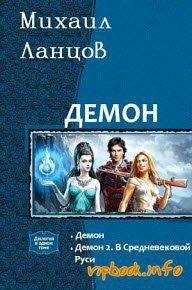Оля Ватова - Все самое важное
Сколько так называемых друзей поспешили отвернуться от нас во имя будущей карьеры… Начали избегать Александра, боялись вступать с ним в слишком долгие беседы, особенно на территории Союза литераторов. Страх, о котором я уже много говорила, как паук, опутывал свои жертвы крепкой паутиной.
Помню, у нас собралась компания. Пришли бывшие сослуживцы мужа, художник из одного сатирического журнала. Александр был в тот вечер очень оживленным, много шутил. Но вдруг стал затрагивать актуальные темы, анализируя и остро критикуя многие вещи. Молниеносно наступила гнетущая тишина. Это было ужасно. Это была Москва.
Вернусь ненадолго в Казахстан, в Или. Там мы познакомились с человеком, эвакуированным из Москвы. Он выглядел вполне достойно и искал общения с Александром. Как-то он даже предложил нам перебраться из хлипкой глинобитной хижины к нему в деревянный домик. Нас это насторожило и обеспокоило. Оказалось же, что ему просто хотелось поговорить. Он испытывал к Александру искреннее уважение и понимал, что ему можно говорить правду. Этот человек рассказал, как нестерпимо трудно годами выдерживать сплошную ложь. Ему было просто необходимо выговориться, очиститься от лицемерия, подлости, гнусного вранья. И собеседником, которому можно полностью довериться, он выбрал Александра. Но тогда мы сами уже были настолько пропитаны страхом и подозрениями, что это заставляло осторожничать. А наш новый знакомец оказался довольно искренним человеком. В прошлом он был каким-то научным работником. Здесь жил со своей женой-учительницей.
Вот так и получилось — наши гости боялись слушать Александра, в точности как мы тогда боялись выслушать того человека. Мне кажется, что даже у Достоевского не встретишь такую ситуацию, такой тип сознания, когда каждую секунду человек опасается предательства извне, утраты собственной личности и физического уничтожения.
После возвращения из Советского Союза мы встретили одного давнего знакомого, старого социалиста, человека необыкновенно порядочного, который бурно выражал свой протест против происходящего в Польше. По профессии он был переводчиком, причем великолепным. Его дочка находилась в советском лагере. Поэтому, несмотря ни на что, ему пришлось переводить труды Маркса. Он старался делать все, чтобы вызволить дочь из лагеря, и ему это удалось. Она вернулась и тоже занялась переводами. Правда, вернулась она уже личностью отчаявшейся, полуразрушенной, с сильной склонностью к алкоголю.
Трудно было общаться и с Броневским (о нем я раньше много упоминала). Он стал пить. Причем очень быстро приходил в состояние полного опьянения. Как-то он зашел к нам без предупреждения, вроде как на минутку. Несмотря на то что уже был пьян, тут же попросил водки. Пришлось дать, иначе в таких ситуациях он становился грубым и агрессивным. Час был поздний, и мы, побоявшись отпустить пьяного приятеля, оставили его у себя ночевать. Я постелила ему. От пижамы он отказался, сказав, что привык спать нагишом. И затем в таком виде он стал гоняться по квартире за нашей служанкой.
Ужас пережитого и нынешнее существование — все это изменяло характеры, разрушало души. Как-то к нам зашел приятель, Тадеуш Боровский[38]. Я помнила его жизнерадостным, полным энергии и неизбывного оптимизма. Однако теперь все это куда-то исчезло. Перед нами был совершенно отчаявшийся человек, лицо которого исказило страдание. Через некоторое время он свел счеты с жизнью. Сам факт его самоубийства долгое время скрывался. Называли разные причины смерти, пытаясь скрыть правду. Сгубило же его чувство проигранной жизни. Он не мог примириться с кошмаром той (хоть и иной, нежели в Освенциме) действительности, оставаться в которой было выше его сил.
К большому сожалению, это был далеко не единственный случай подобного крайнего выхода из сложившейся ситуации.
Однажды у нас раздался телефонный звонок. Звонивший (наш знакомый Выгодский) был явно в растерзанных чувствах. Спросил, можно ли зайти, и вскоре мы уже открывали ему дверь. Следом за ним пришла его жена Ирена. Оказалось, что друг Выгодского, которого он уговорил вернуться в Польшу из Израиля, обещая помочь с жильем и работой, через несколько дней после приезда покончил с собой. По лицу Выгодского текли слезы. Он прошел Освенцим, потерял там жену и маленькую дочку. Теперь он потерял друга, да еще в собственном доме. Почему?.. Выгодский зарыдал сильнее, оплакивая его, а может быть, и собственную жизнь. Ирена, вторая жена, заговорила с ним, пытаясь успокоить мужа, но ничего хорошего из этого не вышло. Он вскочил и начал гневно выкрикивать: «Ну что ты несешь! Ведь если мы живы и сейчас здесь вместе, то только потому, что там, в Освенциме, отбирали у умирающих хлеб, который они уже не могли поднести ко рту. Мы забирали одеяла, зная, что им они уже не пригодятся. Это их смерть спасла нас. Это по их трупам мы выбрались из Освенцима. Наш друг сознательно ушел из жизни, потому что у него не осталось сил и терпения продолжать борьбу. Ему не хватало человеческого участия, доброты. В это он давно перестал верить. Он не захотел поселиться в джунглях, где мы-то даже успели пустить корни».
Я не раз повторяла, что лейтмотивом существования в то время был всепоглощающий страх. И нередко он вызывал к жизни предательство. Однажды сестра моего мужа рассказала, как один наш когда-то близкий знакомый (Кручковский[39]) признался ей за год до своей смерти, что испытывает чувство вины перед Александром. Тот всегда всячески помогал ему удержаться на плаву, способствовал профессиональному росту, добился для него специальной стипендии, чтобы можно было спокойно работать. А он в благодарность за это… вдруг вообще перестал замечать Александра, не хотел разговаривать с ним. И больше всего на свете боялся, что кто-нибудь увидит их вместе….
Моя память продолжает высвечивать воспоминания… Вскоре после возвращения из Казахстана я навестила писательницу Марию Домбровскую[40]. Она жила в своем старом, чудом уцелевшем во время бомбежек доме. У нее поселилась Анна Ковальская с дочкой. С Ковальской мне довелось познакомиться во Львове, когда на нас обрушились всевозможные беды. Должна сказать, что она всегда сохраняла самообладание сама и помогала другим силой собственного духа. Для меня она тоже стала тогда надежной опорой. И, увидев ее вдруг рядом с такой хрупкой, ранимой, не слишком приспособленной к реальной жизни Марией, я невольно поразилась тому резкому контрасту, который являли собой эти две женщины. Ковальская заботилась о Марии — вела хозяйство, занималась всеми текущими делами. Она оберегала душевное равновесие Домбровской, чтобы дать ей возможность писать. Естественно, разговор коснулся Советов. Переполненная событиями прошлого, я не могла не рассказать о шестилетнем пребывании в Казахстане, о тюрьмах, через которые прошел Александр. Домбровская внимательно слушала, не скрывая эмоций. Реакция же Ковальской меня просто потрясла. Она явно была недовольна тем, что затронули эту тему, и, грубо оборвав меня, предложила выпить чаю. Уверена, она повела себя так, защищая спокойствие Марии. Ведь та должна была писать… И она писала.