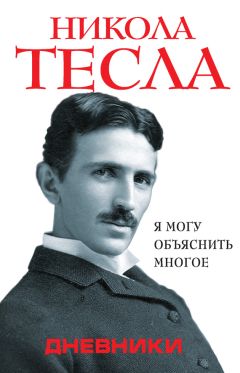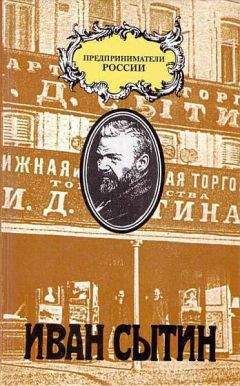Иван Сытин - Жизни для книги
Оба издателя принципиально согласились принять это предложение, по по вопросу о продажной цене издания между ними вышли разногласия.
Сытин предлагал выпустить сразу два издания: дешевое и дорогое — в 10 рублей и в 50 рублей[76].
А Маркс возражал против дешевого издания и настаивал, чтобы цена сытинских изданий была в 25 и 50 рублей.
Противоречие это было очень трудно устранить, и комитет поставил вопрос: не пожелает ли один из издателей взять все дело на себя и заплатить целиком 300 тысяч?
Чтобы избежать какого-либо торга при наследстве Толстого, я предложил Черткову самому избрать издателя, и Чертков, вполне резонно, остановил свой выбор на Марксе, мотивируя это тем, что при «Ниве» приложения даются бесплатно и, значит, задушевное желание Толстого, чтобы книги его были общей собственностью, в комбинации с «Нивой» ближе к своему осуществлению. К несчастью, однако, Маркс отказался от всякой сделки (он находил цену в 300 тысяч слишком высокой и убыточной), и дело снова повисло в воздухе.
Тогда комитет опять обратился ко мне.
— Не согласитесь ли, Иван Дмитриевич, принять на себя посмертное издание все целиком? Помогите нам выйти из этого положения…
Я посмотрел контракт, который был заключен с Марксом (но не был еще подписан), и согласился.
— Хорошо. Я согласен подписать договор на тех же условиях, какие были предложены Марксу.
Получив в свои руки литературное наследство Толстого, я распорядился им так: 10 тысяч полного собрания было пущено в продажу по 50 рублей и 100 тысяч — по 10 рублей.
Это последнее, десятирублевое, издание разошлось в приложениях к «Русскому слову» и другим периодическим изданиям, принадлежавшим нашему Товариществу.
Конечно, никаких барышей от этого издания наше Товарищество не получило. Мы свели лишь концы с концами. Я принял предложение наследников только потому, что считал долгом издательской совести помочь комитету распутать все узлы, завязавшиеся вокруг яснополянской земли.
Мы все так бесконечно много были обязаны Льву Николаевичу, что не прийти на зов его наследников было бы делом самой черной неблагодарности.
А. М. Горький
ода за два до войны в Москве, как и всюду в России, чувствовалось какое-то политическое удушье. Точно кошмар навалился на русскую грудь, и не видно было кругом никакого просвета. Старая власть догнивала на корню и лежала точно в параличе. Ни одного шага для сближения с обществом и народом она не могла сделать и стояла у последней черты. Позор Распутина и распутинщины ощущался всеми, и все чувствовали, что этим грязным именем точно дегтем вымазывали ворота всей России. Ощущение стыда, резкого, невыносимого стыда переживалось с такой остротой, что противно было взять в руки газету.
Распутин решительно портил весь фасад русской культуры, и рядом с ним все казалось каким-то ненастоящим, шутовским, оплеванным.
— Какой же может быть парламент, если существует самодержавный Гришка?
— Как можно серьезно говорить о государственной власти, если Гришка и назначает и выгоняет министров?
— Решительно все — и печать, и университет, и Академия наук, и даже политические партии — все это из-за Гришки получало какой-то особый, смешной оттенок. Вся жизнь становилась ненастоящей, точно на зло выдуманной, и в этом всероссийском аду, как в змеином гнезде, клубились политические гады и царствовала на полной своей воле политическая сплетня.
Я помню, в эти тяжкие годы многие русские люди переживали какую-то непонятную тоску, точно от сердечного удушья. Все ждали катастрофы, ждали взрыва и чувствовали, что висят на волоске. Русское сегодня было нестерпимо, а русское завтра было темно и страшно.
Помню, эта тоска была знакома и мне. И даже в такой степени, что я не находил себе места и без особой надобности, почти без цели все ездил из города в город с единственным желанием уйти от людей и бежать от самого себя.
Странствуя таким образом, я попал в Варшаву, и в Варшаве пришла мне в голову мысль поехать за границу.
— Поеду-ка я на Капри. Никогда там не был. И с Горьким повидаюсь…
В том состоянии, в каком я был, я мог поехать и в Малую Азию, и в Египет, но имя Горького повлияло на мой маршрут, и я взял направление на Италию.
Итальянское солнце и синее море несколько оживили мне душу.
Какой радостный, счастливый, какой божественный край!
В Неаполе мне показалось, что я попал в страну роскоши и богатства. Так горели на солнце дворцы, отели, сияли дорогие витрины магазинов.
Но маленькие дети тут же хватали за полы иностранцев и просили «на макароны». А ночью, когда я пошел посмотреть залитый лунным блеском Неаполитанский залив, меня обступили такие типы, что я едва ноги унес.
— Нет, и у них не все ладно. И море, и солнце, и Везувий еще не решают вопроса о «макаронах».
Переночевав в Неаполе, я поехал на Капри — прославленный игрушечный островок, где нашел приют русский писатель.
На Капри к Горькому приезжало много свободомыслящих русских людей: здесь была своего рода академия революционеров.
Алексей Максимович принял меня ласково и радушно. Но здесь, среди роскоши юга, под этим ясным, синим небом, в виду дымящегося Везувия, мы говорили больше о нашей серой, холодной родине. Здесь, у этого блещущего синего моря, по которому белели здесь и там рыбачьи паруса, как-то особенно тепло вспоминался русский мужик. Чувствовалось ясно: только дай ему силы знания — и все сокровища обретешь в его душе.
— Да, надо все это исправить, — говорил Алексей Максимович, — плохо народу живется. Вот вы издаете дельную литературу для народа, но ноющую и слезливую — Толстого и Лескова, а надо поднимать его сильной, бодрящей, смелой книгой. Довольно ему духовных книг, проповедующих смирение и подвижничество. Эти книжки сделали из народа раба — ими вы проповедуете рабство.
Показывая дом, Алексей Максимович остановился на библиотеке:
— Посмотрите, Иван Дмитриевич, какая у меня здесь прекрасная русская библиотека. Я вне России, но живу для России.
И опять Алексей Максимович перешел к русскому мужику:
— Издавайте книги, дающие мужику знание, дайте ему учиться, пусть он узнает право, свободу. Дайте ему школу, чтобы он по выходе из нее знал свои обязанности и права гражданина и человека и, главное, умел бы вести свое хозяйство и научился ремеслу, хотя бы самому необходимому, которого требует его маленькое хозяйство. А что у нас? Из школы выходит через 3 года мальчик, ничего не знает, даже письма написать не может. А ведь ему уж 14 лет. Ужас, что школы плодят: поголовную безграмотность. Вот почему вся деревня мертва и жизнь ее пуста. Излишек подростков идет на заводы и фабрики и попадает на всю жизнь в кабалу, там их суют куда попало, и вот они начинают новую жизнь пролетария. А ведь там тоже нет порядка, системы и умения использовать их возможности. Сколько этих малышей пропадает…