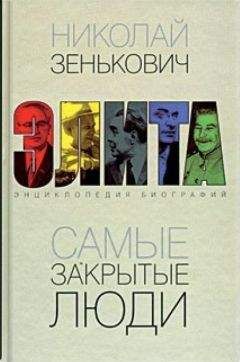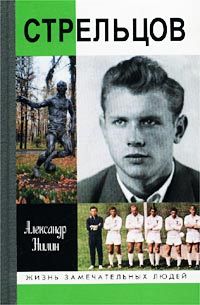Александр Нилин - Стрельцов. Человек без локтей
Пьяным он делался неуправляемым. Но эта же неуправляемость наверняка клубилась в нем и в трезвом, просто в негероическом быту она ни во что не сублимировалась — преобразовывалась только на футбольном поле, где ей находилось применение в тех выбросах изобретательной энергии, за которые любили мы Эдика.
Пьяным он становился беспощадной карикатурой на себя — им, колоссально энергетически неуправляемым, руководили чаще всего благие порывы, хотя все мы понимаем, что ничем и никем никакие порывы руководить не могут. Он бывал искренен в желаниях, преувеличенных алкоголем, думая во хмелю, что хочет всем окружающим добра, отстаивает справедливость, вступая в потасовки, защищает себя — в трезвом-то виде он хорошо умел скрывать свою ранимость.
Он хотел, как мне кажется, и в быту, в общежитии — на скучном берегу бескрайнего футбольного моря — испытать ту же уверенность, что испытывал в лучшие минуты своей игры. Отсутствие уверенности в себе, находившее на Стрельцова время от времени, — единственное, может быть, что его пугало. Но что в обыденной жизни мог он совершить, равноценное забитому голу?
Кстати, про голы — забитые и незабитые.
В начале восьмидесятых годов Ринат Дасаев вместе с журналистом Александром Львовым написал книгу, выпущенную тем же издательством, что печатало мемуары Стрельцова, — и когда понадобилась рецензия, решили, что лучше всего поручить ее Эдику.
Посредником сделали меня. Эдик отозвался вяло: сказал, что книжки такого рода читает редко, а то и не читает вовсе. Я предположил, что он знает Львова… «В лицо, наверное, знаю». — «Ну Дасаева ты уж точно знаешь?» — «Из „Спартака“?» — «Какого же еще? Вот что-нибудь о нем и расскажи. Трудно ли, например, забить ему гол?» И вдруг Эдуард завелся: «Гол, Санюля, забить всякому вратарю трудно!» И последовало длиннейшее рассуждение о том, сколько же всего надо учесть, принять во внимание, заметить и оценить, прежде чем решить: куда целить мяч? Я жалел, что не успеваю записать эту непредвиденную лекцию. И в растерянности спросил: «Но ведь забивают же все-таки?» — «Приходится. Иногда…»
Фельетонисты, продолжившие начатое Нариньяни, в поисках поддержки обывательской аудитории заявляли, что «человек-то Стрельцов был серый, недалекий… Он искренне считал, что Сочи находится на берегу Каспийского моря, вода в море соленая оттого, что в ней плавает селедка». Я подумал, когда прочел: как же надо не уважать игру, в которую, кстати говоря, один из авторов фельетона и сам неплохо для любителя играл, чтобы ради красного словца замахнуться на едва ли не самый могучий игровой интеллект в мировом футболе. Как будто все гении спорта или искусства непременно сведущи в географии и вообще все, как на подбор, эрудиты…
Когда Григорий Федотов на занятиях в школе тренеров не смог разделить тысячу на пять, Николай Дементьев подсказал ему с первой парты: «Гриша, да это же литр на пятерых». И соученик немедленно выпалил: двести грамм. А Евгений Евстигнеев, умевший, как никто, передать со сцены и экрана мысль, сыграть интеллектуала, считал, что член-корреспондент — это неудавшийся ученый, перешедший на работу в газету.
Я слышал, что в молодости Эдик и с девушками говорил в основном про футбол — рассуждать на другие темы стеснялся, слов не находил. Но к моменту нашего с ним знакомства Эдуард за точным словом в карман не лез — говорил не всегда с большой охотой, но выразительно. При посторонних он мог и замкнуться, однако в кругу постоянных собеседников умел «подержать площадку» — было ему чего вспомнить и о чем рассказать.
…Для зиловского народа учиняемые Эдиком фокусы новостью не становились — они о них не из газет узнавали. Стрельцов в своих разгулах и загулах от людей не прятался: наделал глупостей в заводском Дворце культуры, что рядом со стадионом, который ныне носит имя дебошира. В безобразиях Эдуарда что-то бывало и от проказ неумеренно расшалившегося ребенка: он, скажем, требовал, чтобы во Дворец немедленно вызвали директора завода Крылова, чтобы тот наказал всех, кто мешает веселиться футболисту из «Торпедо». У людей с чувством юмора это вызывало не возмущение, а смех. Не за один только футбол ему все прощали — ведь и в агрессии его была все та же беззащитность перед жизнью, в которой он только играл в футбол, — во всей прочей сложности она оставалась для него дремучим лесом. И он чувствовал нутром, что заблудится и в трех соснах. Он для полян создан — это и самым строгим блюстителям советских понятий было совершенно ясно.
Но лимит перманентных прощений к зиме пятьдесят восьмого формально был исчерпан. И пьяные манипуляции при входе в метро стоили ему звания — удостоверение заслуженного мастера спорта, которым Стрельцов хлестал по физиономии некоего гражданина Иванова — по мистической случайности, однофамильца лучшего партнера Эдуарда, — отобрали, как дорогую игрушку у ребенка.
Нариньяни пишет: «Терпение игроков по сборной лопнуло, и они собрались позавчера (по каким горячим следам писался фельетон! — А. Н.) для того, чтобы начистоту поговорить со своим центральным нападающим. Возмущение спортсменов было всеобщим. Футболисты вынесли единодушное решение — вывести Стрельцова из состава сборной команды страны и просить Всесоюзный комитет снять с него звание заслуженного мастера спорта…
…Сегодня вечером сборная команда вылетает за границу. Затем отправляются на предсезонную подготовку и клубные команды мастеров. И в этих командах, где на левом краю, а где на правом, имеются «звездные мальчики». Так пусть посошком на дорогу, вместо традиционных ста граммов, будет этим мальчикам невеселый рассказ о взлете и падении одного талантливого спортсмена.
Вы спросите: что же это — конец, закат центра нападения?
Все зависит от самого «центра». Товарищи оставили ему возможность для исправления. Они сказали Стрельцову: «Начни-ка, друг, Эдик, все сначала. Поиграй в клубной команде. Наведи порядок в своем быту, в своей семье. Докажи, что ты серьезно осознал свои поступки не на словах, а на деле, и, может быть, мы снова поставим тебя центром нападения в сборной. Но поставим не сегодняшнего Стрельцова — дебошира и зазнайку, а того молодого, чистого, честного, скромного»».
Спортсмены (и болельщики вслед за ними) — суеверны. И людям, близким к спорту, не покажется запальчивым мое нынешнее утверждение, что фельетонист сглазил Стрельцова.
Что самому Нариньяни не так уж и хотелось, чтобы Эдуард оказался погибшим для мирового футбола. И что это не входило и в планы тех, кто заказывал фельетон.
В финале фельетона Нариньяни допускает несвойственную ему невнятность — сам себе противоречит. И странен призыв к спортсмену: будь не сегодняшним, а вчерашним. Как будто «чистый, честный, скромный» молодой человек не способен на глупость в несчастливую для себя минуту. И неужели непонятно, что, отсекая Стрельцова в педагогических целях от партнеров по сборной, его обрекают на еще большее одиночество, которое поспешат разделить с ним совсем уж чужие люди?