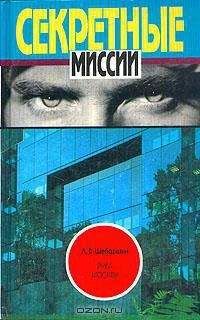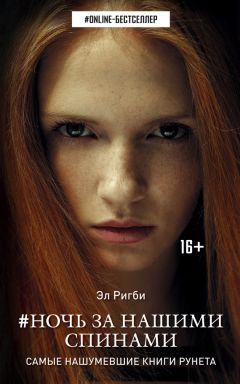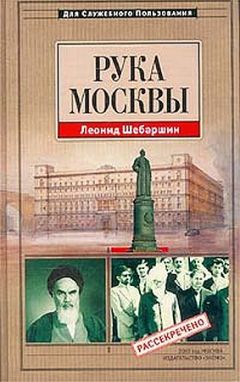Леонид Шебаршин - Рука Москвы. Разведка от расцвета до развала.
Так что и скука, безысходность тупого существования толкала иранских ребятишек на бой с отступниками от ислама.
...Неразговорчивый молодой Ноубари навел порядок в лавке, выкинул кое-какую рухлядь, выставил на видное место книги попригляднее и на все вопросы о старике односложно отвечал: «Скоро будет». Оказалось, что не так скоро — попал Ноубари на год в тюрьму. Появился он в один прекрасный день на раскладном стульчике у двери лавки. Похудел старик, глаза запали и потускнели, длинный унылый нос висит из-под черной шапки. На расспросы машет рукой, озирается по сторонам — не подслушал бы кто, что о тюрьме спрашивают. На что был лихой торгаш — ни риала не уступал, со вкусом, выдумкой торговался, а теперь назовет цену и молчит, кутается в мешковатый черный пиджак.
За что страдал старик? Связаться с революционерами он не мог: расчетлив, жаден, в мечеть ходит регулярно, да и возраст у него уже далеко не революционный. Связался ли Ноубари с какими-то темными дельцами, не пользующимися покровительством исламских властей, стал ли жертвой распри? Все это так и осталось неизвестным. Может быть, просто имел глупость сказать резкие слова по поводу порядков в исламском государстве. Не он один за это пострадал. Не напрасно висит в парикмахерской — традиционном месте дискуссий, сплетен и дружеских бесед — плакатик: «Просим уважаемых клиентов не говорить о политике».
...Стоят на полках моей московской квартиры случайно попавшие к Ноубари и перебравшиеся в Москву разномастные, потрепанные книги — часть чьей-то ирановедческой библиотеки, две-три брошюрки российского Генерального штаба с грифом «Не подлежат оглашению», словари, старинные самоучители персидского языка. Если раскрыть одну из этих книг, то пахнет ароматом старой бумаги, тегеранской пыли, букинистической лавки на улице Манучехри недалеко от ее пересечения с улицей Фирдоуси, в пятнадцати минутах ходьбы от советского посольства. Старик Ноубари и его сын были людьми замкнутыми, себе на уме. Владелец книжного магазинчика поодаль, на той же улице, небольшого роста, худенький, улыбчивый исфаганец Пазуки — их полная противоположность. Этот настоящий перс— хитроват, словоохотлив, разумен, любознателен, вежлив и предупредителен. Я раскапываю груду книг, сложенную в углу. Дело, требующее терпения и осторожности. Всем известно, что самое интересное обязательно прячется где-то в глубине, в толще, под завалом учебников, технических справочников, словарей. Мелькнул потертый кожаный корешок, но нельзя сразу его вытянуть, рухнет вся горка. Перекладывая стопку свежих брошюр с изображением окровавленного кулака, автомата и полумесяца на обложке, я невольно поморщился. Этого было достаточно для начала длительного и интересного знакомства.
«Вы, видимо, не одобряете исламскую революцию?» — спрашивает приглядывающийся ко мне хозяин. Исламскую революцию я действительно не очень одобряю. Мне импонировало народное, антимонархическое движение. Изгнание шаха и позорный конец династии Пехлеви были, как мне казалось, торжеством исторической справедливости. Я с удовольствием, даже со злорадством следил, как метались, потеряв голову, американцы. Но исламизация революции, превращение ее в свою противоположность, избиения молодежи, осатанелый антисоветизм и многое-многое другое мне не нравится. Нельзя вступать в спор на чужой территории с незнакомым собеседником. Улыбка у него ласковая, располагающая, однако на Востоке улыбки и любезные слова не стоят ломаного гроша.
Я отвечаю решительно, насколько позволяет — увы! — чрезвычайно сомнительное знание фарси, что, как советский человек, революционер по воспитанию и призванию, выходец из низов, горячо приветствую революции угнетенных народов против бессовестных эксплуататоров, деспотических правителей и их иностранных хозяев. Набор штампованных фраз приходится читать и слышать так часто, что, к моему удивлению, они вылетают с вполне приличной скоростью, хотя связующие их грамматические звенья явно хромают. Но уж лучше, на мой взгляд, объясняться кое-как, чем вообще избегать общения. Есть люди, которым нравится говорить, и есть те, кто предпочитает слушать. С Пазуки у нас возникли почти идеальные отношения. Он принадлежал к первой категории, я же на время разговоров с ним переходил во вторую, превращался во внимательного слушателя.
Время зимнее. Сидит Пазуки на табуретке за прилавком, заваленным книгами, скучает, в окно поглядывает, но и на улице ничего не происходит. Оппозиция подавлена, взрывы еще звучат, но демонстрации прекратились. Тоска! Появление советского друга — это приятное событие.
Конечно, те, кому следует, предупредили хозяина, чтобы особенно-то уж он не откровенничал, попросили его запоминать, чем интересуется и что говорит русский. Конечно же, Пазуки охотно соглашается. Думаю, делает он это не только в страхе за жизнь — ему-то чего бояться? Родной брат командует гарнизоном стражей в курдском городе Ошновие, жизнью рискует за революцию. Пазуки — энтузиаст и, конечно, не откажется помочь власти. Нашим отношениям это не мешает.
Увидев меня, Пазуки оживляется, угощает крепким чаем в маленьком пузатом стаканчике с сахаром вприкуску. Предлагаемая мною сигарета «Уинстон» вежливо отклоняется — хозяин убежденный противник всего американского, он честно стоит на стороне исламской революции и всерьез воспринимает ее лозунги. Такими людьми вымощены обочины дорог истории.
Интересующие меня книги у любезного исфаганца бывают редко — купил я у него недорого одно из первых изданий «Семи столпов мудрости» Т.Б. Лоуренса и ядовитую критику этих «Столпов» Р. Олдингтона, да «Историю Персии» Дж. Малькольма. Остальное — мелочи для поддержания коммерции, тонкая струйка масла в огонек взаимной приязни.
У меня впечатление, что Пазуки ждет не дождется возможности выговориться, и я задаю ему нейтрально-доброжелательный, тщательно продуманный вопрос.
Хозяин лавки широко улыбается. Разумеется, он может самым доскональным образом объяснить дело, и начинает долгий, эмоциональный монолог, постоянно вопрошая: «Вам понятно?» Я согласно киваю головой — понятно, дескать, и сокрушаюсь про себя, что многие детали до меня не доходят, ниточка рассуждений вдруг обрывается, и я ухватываю ее вновь не сразу.
У персов своя витиеватая и не всегда доступная нам логика, но строится речь, как правило, по принципу: во-первых, во-вторых и так далее.
С чего бы мы ни начинали, разговор обязательно сбивается на темы справедливости — иранской, исламской, социалистической, всеобщей. В лавке уютно, тихо, пахнет книгами, тепло от керосиновой печки. Жестикулирует, подпрыгивает за прилавком востроносый щуплый перс, у него приятный, выразительный голос: «Ислам справедлив. Надо, чтобы люди поняли, что они могут жить в мире и согласии, что нельзя угнетать слабых. Для каждого есть место в огромном мире, и не важно, молится ли человек Аллаху или христианскому Богу. Законы Всевышнего одни для всех, нужно только следовать им. Имам Хомейни мудр и справедлив, его душа плакала кровавыми слезами при виде тех бесчинств, которые творили в Иране шах и американцы. Развращалась, утрачивала человеческие черты иранская молодежь, затаптывались, обращались в прах традиционные ценности. В городских театрах устраивались непристойные представления, наглое вторжение западной дешевой поддельной культуры стало настоящим бедствием. Шахская клика, американские империалисты оболванивали иранский народ, кружили голову блестящими игрушками, покупали мелкими подачками, пытались обратить его в стадо скотов. Ислам всколыхнул народ, пробудил его душу, поднял на борьбу с угнетателями и растлителями. Да, не все еще ладно в новом Иране. Враги революции, империалистические агенты, шахские прихвостни, пытаются повернуть историю вспять. Да, не все законоучители, муллы оправдывают свое высокое положение в обществе. Да, допускают бесчинства исламские комитеты. Да, спекулянты прячут товар, взвинчивают цены. К сожалению, врагов народа приходится расстреливать. А разве ваша революция прошла гладко, без всяких осложнений? Все будет хорошо. Враги убегут из Ирана или будут ликвидированы. Все поймут высочайшую справедливость ислама (она очевидна для каждого разумного человека, но не все еще достаточно разумны), и тогда в Иране воцарится мир и благоденствие. Мы никому не навязываем ислама, но уверены, что народы мира пойдут по нашим стопам...»